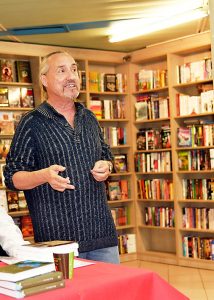Елена Лапшина
***
…И найденное – не было искомым.
Никто из сыновей не утаит
то яблоко, что встало в горле комом –
Адамово – так в горле и стоит.
А у меня – оскомина и сладость,
предательство Адамово, враньё
и Евы – не бессилие, но слабость –
влеченье, наказание её.
В каких бы ты садах ни шёл тропою,
к каким бы ни притронулся плодам,
любой из них, надкушенный тобою,
тебе напомнит яблоко, Адам.
***
Там на реке, плескаясь и хохоча,
шумной ватагою, – только один не в счёт.
Будто река другая с его плеча
жилкою голубой по руке течёт.
Если бы я не думала о таком –
тонком и нежном с шёлковым животом…
Мальчики пахнут потом и молоком,
а молоком и мёдом – уже потом.
Там по реке вдоль берега – рыбаки, –
тянут песок и тину их невода.
А у него ключицы так глубоки, –
если бы дождь – стояла бы в них вода.
Я бы купила серого соловья,
чтобы купать в ключице, да неспроста:
я бы хотела – этого – в сыновья,
чтобы глаза не застила красота.
Лера Манович
***
Поезда, электрички, вокзалы,
Колебания шторы в ночи.
Всё сказала. И всё не сказала.
Ты пойми. Ты ответь, не молчи.
Не молчи. Всё уже происходит,
Ярким тленом подернулся лист,
И за мною всё ходит и ходит
По вагонам слепой гармонист.
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КУСТО
мой отец ушел от матери
потом ушел от женщины
к которой ушел от матери
и от женщины
к которой ушел от женщины
к которой ушел от матери
теперь он прописан
на улице Жака Ива Кусто
в Новой Усмани
деревенские грамотеи
не понимают в склонениях
они написали в его паспорте
улица Жака Ив Кусто
отец расстраивается
из-за этой ошибки
из-за всех ошибок
он ушел бы снова
но идти больше некуда
мой грустный отец
с улицы Жака Ив
Владимир Бауэр
***
Мне хладная весна так нравится теперь,
что страшно за себя и за приязнь такую.
Пронзительный сквозняк проскальзывает в дверь
и, бескорыстно чист, струю несет нагую.
Снег водянистый льет на съёжившийся сад,
чьи, белые уже, недвижимы ладони.
А я не хмурю взор, я даже втайне рад,
что не до суеты обледеневшей кроне.
Остылая душа, привет тебе, привет!
И мудрая притом, и чуткая умело.
И смерть, конечно, есть, но смерти всё же нет.
А если кто затих – то батарейка села.
***
Идет, забвеньем заметаем,
в свое глухое никуда.
Оно ему пока что раем
мерещится, а немота
за ним сурдоприводной тенью
плывет, и вот он весь в тени.
Когда подружатся они,
молчаньем начинив мгновенья,
что звездназвездне промычит,
ярясь на счастие микроба? –
«Как нагл и дерзок он – до гроба
нелепый будет пусть пиит!»
Марк Левитин
PULAU TOGEAN
Кофе немедля, еда на потом,
Новый закат в купоросе и хромпике,
Сами решайте, где дом, где не дом,
Я умотал в азиатские тропики.
Сами оседлости пойте пeан,
Хрен, мол, взлетит, кто ползуч от рождения –
На островах Тогеан океан
Много прозрачней, чем ваши суждения.
Здесь я сумею, уткнувшись в дела,
Вспомнить задачи, забыть о терпении,
И не желать ни упадка, ни зла,
Скучной столице невнятной империи.
Зрей и цвети, приснопамятный град,
Родину слепо веди разношерстную,
Я же не э-, я же просто мигрант,
Я не сбежал, я, считай, путешествую.
Перед чужбиной не падая ниц,
Выберу пить самогон с азиатами,
И восхищать темнокожих девиц
Вязью заумных сентенций об атоме.
В ноль одичаю – а что мне беречь? –
Взгляд из-под листика, жизнь из-под кустика,
Разве оставлю текучую речь,
Пусть не стилистика, все же акустика.
Лет через десять, а может, пятьсот,
Тех, по кому я ленился соскучиться,
Спьяну, допустим, сюда занесет
Неким торнадо, и глупо получится:
Я к тому времени весь пропаду,
Встретят вас только случайные призраки,
Да на лиане бухой какаду,
Нудно орущий о квантовой физике.
Анна-Мария Ситникова
ОБЫКНОВЕННОЕ
И плачет по три дня, сметая «свет» –
Соломенные стебли в тень сарая.
— Ой, солнышка лучи!
А ей в ответ:
— Блаже-е-енная! – вздыхает бабка Рая.
Не девка, а беда… От, видно, бог
Оставить на земле-то мал причину
Такую вось…
— Ба!
— Чуни промочила? Ну, геть из лужи!
Кинь жабёнка – сдох!
— Его душа на небушко слетела?
Задумчиво глядит на облака.
А жёсткая бабулина рука
Уводит в дом.
— Пошто глазеть – не дело!
Ужо самой пора… А толь каму
Обуза гэта? Господи, помилуй
И дай мяне и мудрысти, и силы…
— Иди ужо, сердешная, к столу!
Коту шматок? Што ложкой колготишь?
Ушица – ах! – Андреич дал жерёху.
— Андреич мне казал, что я дурёха,
Дурёха я, дурёха…
— Буде, кыш!
Шурует бабка Рая мокрой тряпкой,
Самой себе кивая: «От, кажи!»
А в слободе всё то же: сохнут грядки,
Надкушен лунный блинчик, чуть дрожит
Стожаров свет и тонут в дряхлой бочке
Остатки снов, мурлычет «ёшкин» кот
Да тянется мережка по сорочке.
Ворчит старуха: – Нады ж – лишний рот!
Но с нежностью ничем не объяснимой
Накинет шаль на внучки Серафимы
Большой живот. Та вздрогнет.
— Не глупи!
— Там ангел бьётся!
— Ангил, детка! Спи.
Марина Чиркова
ЕХАТЬ
…в красный трамвай и ехать.разума с кулачок,
рюха твоя, прореха, ореховый мозжечок.
где прорасти-добраться? сто первыми сентября,
пальчиками акаций — до стриженого тебя…
чтобы: такие дети, всё-то игра одна!
вот он, гляди, «секретик», таращится из окна:
кричный, коричный город, каменный шоколад,
улочки (злить и спорить), дворики (целовать),
дерево — сеть и дверца, кость и живучий альт —
солнечными младенцами сыплется на асфальт…
клеить кленовый «носик»? а, да и так чудно!
чей-то случайный взрослый присматривает за мной…
Светлана Супрунова
***
В пятиэтажном улье комнатушка.
Комод и стулья дышат стариной.
В той комнатушке кроткая старушка,
Встаёт чуть свет, ложится со звездой.
Я увидала дверь при тусклом свете
И, ковырнув разболтанный замок,
Узнала всё: комод и стулья эти,
Упрятанные кольцами дорог,
И ватное родное одеяло,
Как яблочко сушёное, лицо.
«Чего так долго ты не приезжала?
Хотя бы за полгода письмецо…»
Всё слушала меня, всё удивлялась,
И тут смекнула радостно: «Погодь,
Что ж – насовсем? ужель навоевалась? –
И тихо так: – Храни нас всех Господь…
Война – оно занятие пустое,
А сердце всё же просит тишины…»
И обронила самое простое:
«Нельзя ли как-то миром, без войны?»
И сумерки надвинулись тревожно,
И я тогда подумала о том,
Что без войны, наверное, и можно,
Когда сердца наполнены добром.
Какая-то неведомая сила
Нам раздаёт смиренье и покой,
Не то добра кому-то не хватило,
Не то другим насыпано с лихвой.
Алексей Миронов
НЕ ВОДА
И то, и все, и бездны на краю
я чай попью с ромашковым настоем,
а жизнь течет не в такт календарю
под тем мостком, где все горчим и строим.
И нет мне тела до других страниц,
в которых неизвестность выше смерти,
и тех не злых пока что медуниц,
что в душу мне протягивают стебли.
Судеб травошептанье: лебеда,
и водосбор, и рута, и мокрица…
Прости меня, но ты мне не вода:
не утонуть, не выпить, не умыться…
Алена Рычкова-Закаблуковская
СИЗИФ
Он жил не так, как нам хотелось всем.
Дни истончались хлопковой мережкой,
А он катил по узкой полосе
Тропинки допотопную тележку,
Что об одном помятом колесе.
Он тридцать лет возил на ней песок
На заболоченный участок.
Сизифов труд
Бездарным и напрасным
Казался мне. А ныне тут растут
Берёзы наши.
Он сам себе придумывал работу:
Вставать чуть свет, вернее – до восхода,
Литовку взять, в предутреннюю хмарь
Идти в росу пока гудит комар
И розов край тугого небосвода.
Срезать косой звенящую траву
И в эту землю прорастать ногами,
Сминая дёрн литыми сапогами.
И никому не возводить в вину
Свою судьбу.
Не верить в бога и в загробный мир
«Есть скорбь и тлен, червей могильных пир» –
Он говорил. И улыбался тихо.
А нынче вот приснился. Как он лихо
Свою тележку по тропе катил!
Как глаз белки покойницки блестели.
Рубашка на его тщедушном теле
Сама собой торжественно плыла.
И вот тогда во сне я поняла,
Что до сих пор он увлечён неверьем.
И даже там, за сумрачною дверью,
Он линию свою упрямо гнёт.
В тележке возит траурную землю
И никого за это не клянёт.
Андрей Новиков
НОЙ
Земля молода, в ней упрямая нега,
Теплы небеса и манят пеленой.
Зачем же кедровое тело ковчега
Поставил на брег недоверчивый Ной?
С утра облачился в льняную рубаху
Денек безмятежный на все времена,
Умыты росою библейские страхи,
Пророки вздремнули, хлебнувши вина.
Смеется над ним молодая природа,
Бросает к ногам изобилье плодов,
И воины гордо идут из похода,
Ведут на веревках коров и рабов.
Купцы суетятся в торговом угаре,
Артельщики строят из камня дома,
А он все твердит: «Каждой твари по паре»,—
И все собирает в мешки семена.