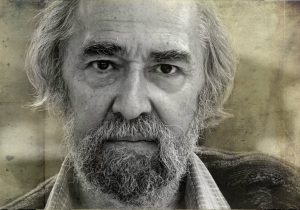ЛЮБИТЕ МЕНЯ, ПОКА Я ЖИВА
Может, всё оттого, что пишу колонку в хмари послековидной, плохо держась за Землю, лишенная силы отрешиться и воспарить, способная только слушать и чувствовать. И вспоминать. Провалилась в воронку между прошлым и несбыточным. Между памятью и текущим. Выбираться не хочется, да и зачем? Это я собралась писать о Веронике Аркадьевне Долиной. Как водится — поначалу слушаю песни. А там, в ютубе, сколько всего, прочно прописанного в памяти, но совсем иначе обернутого и упакованного в видеоклипы, в слайды, в картинки из фильмов. Разворачивающимися рулончиками разноцветных конфетти, светящимися окошками кадров киноплёнки… Так что слушаю и слушаю, благо так всё хитро устроено, что за одной песней сама собой запускается другая, третья… Чувства всякие и разные — когда-то мне казалось, что всё это про меня, обо мне, а кое-что и для меня произошло. Но нынешние картинки — это про других, их глазами и жизнью. На десятой мелькает идея, что очень хорошо бы уже и писать самой. Идею гонит прочь следующая песня. Пожалуй, лучше, и безопаснее будет поставить себе концерты в разных городах и разных лет, благо на них тоже расщедрился нынешний интернет. Снять с полки кучу книжечек, погладить их кончиками пальцев, полистать, залипнуть ещё и туда, обнаружив хорошо забытое старое и и вовсе новое… Уже несколько дней так и живу ведь. Трудно оказалось рассказывать о человеке, с которым дружишь больше сорока лет. С женщиной, занявшей прочное и уютное место в жизни. Поддерживающей в тяготах и радующейся добрым событиям. Потому что рассказ о Веронике всё время пытается сползти в лишнюю, даже нескромную интимность. Точно могу сказать, совсем немногие люди не из ближайшей родни сделали для меня больше, чем Вероника. И не попросили за это ничего и никогда. А я, сколько бы ни взрослела, остаюсь в неоплатном восхищении и неизбывной нежности. Думаю, о Веронике Долиной написаны уже дипломы и диссертации филологические, потому что дар её того заслуживает, да и более того уже заслужил. Я лучше поделюсь тем, как меня песни Вероники, в самые разные годы, спасали (буквально), утешали, давали силы и забирали боль. Переносили меня в мир химически чистого волшебства, где можно было вдохнуть и выдохнуть, и повторять это столько раз, сколько необходимо для того, чтоб примириться с реальностью и выйти обратно в неё, став сильнее.
Кое-что из любимого вот:
А ХОЧЕШЬ, Я ВЫУЧУСЬ ШИТЬ?
https://www.youtube.com/watch?v=186eos47JX4&ab_channel=maxvol777
КОГДА Б МЫ ЖИЛИ БЕЗ ЗАТЕЙ
https://www.youtube.com/watch?v=F6vOE5nks-E&ab_channel=VeronikaDolina-Topic
МОЙ ДОМ ЛЕТАЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=aCgepchIPqk&ab_channel=alexanderktv