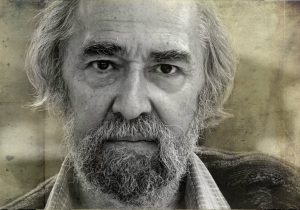Произвол
***
Тебя будить опять влетает шмель.
Над самым ухом он стучит и жучит:
«Окно, стекло, свобода, жизнь, апрель!»
Он как часы. Он самый неминучий.
Уже дней десять эта канитель.
«Бросай постель!»
И вот встаёшь, хоть лености сейчас
Предела нет. Лишь нежность превышает
Любой предел. На каждый выкрутас
Шмеля твоя ладошка отвечает
Движеньем к форточке. «Ну всё, атас!
Летим сейчас!»
Он не ужалит. Если наготы
Коснётся шмель, то разве перепонкой.
И, кстати, знает — можешь только ты
Возиться с насекомым, как с котёнком.
«Ты одобряешь, дева красоты,
Мои финты?!
И, в целом, ежеутренний разбой,
С твоим платком непримиримый бой,
Моё сверло, чей звук не будет прерван?!»
А впрочем, ведь когда-нибудь герой,
Что сдуру спать повадился с тобой,
Проснётся первым.
***
Артисты в подвале мою репетируют пьесу.
Подвал за высоким бугром, за морями-лесами.
У них в первом акте на сцене танцует принцесса
С распущенными волосами.
Но вскоре на лошадь садится, пускается в путь.
Погода отвратная ― холод и снежная муть,
И ветер такой, что румянец не сходит со щёк.
— Куда она скачет?
— К тебе. А к кому же ещё?
Но вот уже сцена другая и время другое.
Какого-то лешего слева и справа солдаты.
Гляди, разминают мечи и хвосты перед боем,
Все веселы, злы и поддаты!
Скачи через них, дорогая, по слякоти мчи!
(На шее звенят от далёкой темницы ключи.)
Вот первые пули орешками — щёлк да пощёлк!
— Куда ты, красотка?
— К нему, а к кому же ещё?
Базарная площадь. От мяса и зелени ― пар,
И голубь тяжёлый взлетает с измятой газеты.
Прочти и получишь селёдочно-сахарный дар.
(Пожалуйста, только не это!)
Здесь трудно слепому пройти, но зажмурься скорей
И клячу веди не спеша мимо мёртвых зверей.
Здесь до смерти помнят проценты, и долг не прощён.
— Куда, побирушка, плетёшься?
— К кому же ещё?
Итак, антиподы мою репетируют пьесу.
У них перед этим игрался Шекспир или Чехов.
А я, между прочим, совсем не причастен к процессу —
Сижу, никуда не приехав.
Пока от актёрских радений трясётся подвал,
Я пиво купил, я случайную даму позвал.
Ведь есть берега, куда автору въезд воспрещён.
— Куда ты, удача?!
— К тебе, а к кому же ещё?
***
Мрачный поэт учинил произвол —
Белые брюки себе приобрёл.
Анна увидит — помашет рукой:
«Ишь, приоделся ― смотрите какой!»
В рюмочной тихо покупку обмыл,
И по дороге, качаясь, поплыл.
Анна увидит и скажет: «Ого!
Так бы и съела сегодня его!»
Взял папиросы в киоске поэт,
Сделал затяжку на третий куплет…
Анна подумает: «Вот обормот!
Взять бы его поскорей в оборот!»