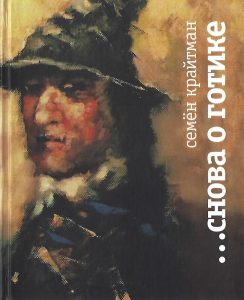

Роман Кацман
«Освобожденье речи»
Предисловие
Семен Крайтман. «…снова о готике. стихи».
СПб.: Геликон Плюс, 2021.
Современного любителя поэзии трудно удивить. В карнавальном кружении бесконечного разнообразия стилей и направлений, что может еще заставить его окаменеть перед лицом «немилосердной красоты»?[1] Еще недавно философы искусства уверяли, что прекрасного больше нет, а есть заговор посвященных[2] и изощренность идей,[3] что место эстетического переживания заняли эмоциональность коллективной идентичности[4] и гегемония общественных институций.[5] Я вынужден разочаровать приверженцев этих теорий и обнадежить сомневающихся: новая книга Семена Крайтмана, вслед предыдущей («про сто так», 2015), возрождает уверенность в жизненности того неуловимого вневременного «золотого стандарта» поэзии, который считался безвозвратно утерянным. Классическая чистота и раскрепощенность форм, ясность и глубина мысли, яркость и оригинальность образов гармонично сочетаются здесь с культурной насыщенностью, историческим трагизмом, экзистенциальной тревогой, тонким интеллектуализмом и богоискательством. Свежий ветер с вершин Золотого века русской поэзии врывается в заваленные пыльными книгами и перегороженные дымными «моторами» чертоги века Серебряного. При этом не возникает ощущения вчерашности или завершенности, а, напротив, поэтическая речь достигает той свободы, которую редко встретишь и в авангардных экспериментах. Поэзия празднует
час возвращения речи в прохладный, птичий,
в колокольный, длинный, высокий, летящий крик.
я с тобою сейчас для того, чтоб отметить миг
появления в мире легенды о Беатриче,
то есть идеи памяти и любви[6]
Уже в первой книге «про сто так» поэзия Крайтмана обретает свои основные черты, и в дальнейшем они проявляются всё с большей выпуклостью. Критики отмечают «телесно-предметный», «пестрый и разноязыкий» характер его письма – «этакий Вавилон в миниатюре»,[7] ручеек «длящейся непрерывности текста», понимаемой как «непрерывность потока Божественного бытия».[8] Из плотно насыщенной ткани предметности вырастает удивительная метафорическая образность, как, например, в следующих строчках:
и снег от их шагов скрипел и хрумкал,
как «вафелькой» пасхальною еврей.[9]
Все видимое и слышимое соединяется тонкой паутиной подобий, способной «дуновению единый / открыть узор, переплетенье дней».[10] Ритмы этих подобий созвучны ритмам бытия и времени, как и музыкальным ритмам слов и строк:
бывшее время стало
только моим, ничьим, потеряло форму,
расступилось, треснуло, неизвестно куда пропало,
словно женщина, погибшая по пути к роддому.[11]
В этой паутине переплетаются искусство и любовь, детство и Бог, мифология и Холокост, страны и книги, религии и местечки, тела и города. Тем самым, волна за волной, подготавливается девятый вал поэтического недоумения, обрушивающийся на поэта в его второй книге «снова о готике», которую читатель держит в руках. На передний план здесь выходит тайна рождения поэтической строки, неотделимая от тайны рождения жизни и человеческого бытия, и уже не ясно, пишет ли поэт свои стихи или это они пишут, «жизнь вдыхают» и словно «акварелью рисуют» его самого.[12] В новой книге подлинными героями оказываются буквы, слова, строки и листы поэтической тетради. Усиливается и углубляется философско-антропологическая тематика, и прежде всего мотив поэзии как жертвоприношения во имя того, чтобы «срывались со струны» «слова живого Бога».[13] Пушкинская «святая лира», молчащая «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», превращается в неумолкающую, «звучащую вечную слезу»[14] лиры левитов Иерусалимского храма. Огнем жертвенника горят и поэт, и его строки, увидевшие «наготу свою и свою вину», а значит уже вкусившие плодов древа познания добра и зла и изгнанные, «отлученные», обреченные на «бесконечный труд возвращения» – «одиноки, бессонны, / заброшены и бесстрашны».[15]
Теология или теопоэтика Крайтмана находит своего Бога в «солнечной тени», с поистине хасидским упорством непрерывно шепчущего слова творения, и тем спасающего пастернаковский дольше века длящийся день от грозящей бытию остановки времени.[16] Сквозь многочисленные отсылы к древнегреческой, европейской и христианской мифологии и литературе, прорывается восклицание:
как мне вся эта Греция скучна.
как холодны́ эвклидовые рельсы,
которым не сомкнуться.
ерунда.
я знаю время – время отпечаток
нездешней воли на губах влюблённых,
и Бог один, и нет ему названья,
и жизнь сильнее и любви, и смерти…[17]
В этих строчках можно разглядеть старую философскую антиномию Афин и Иерусалима, а также поэтический манифест, который отклоняет как экзистенциальный надрыв, так и головной эстетизм модерна, и который усваивает, но преодолевает столетний опыт декаданса. Бог интимно обретается во взгляде и плечах любимой, в шепоте пришельца, в музыке, в чертах своих созданий, во времени, в шуме моря и в мандельштамовской строке о «море и Гомере».[18] А главное – это «мой Бог»,[19] и потому такой пронзительной горечью и воспоминанием о страшнейшей из еврейских жертв звучит этот диалог на сцене одного из европейских городов:
«ингеле, – говорит Богородица, –
помнишь ли ты наш дом?»
«истинно, истинно, матушка, – говорю Вам, –
финики помню, упадающие к ногам,
помню, средь зимних трав – тонконогий чибис…
что означает, матушка, Нотр-Дам?
как мы здесь с Вами, матушка, очутились?»[20]
Поэзия Семена Крайтмана – это русско-еврейская и русско-израильская литература, что бы эти понятия ни означали. Она живое свидетельство того, что еврейская литература на русском языке не кончилась в сталинских лагерях и в окопах 1940-х, и что русская словесность в Израиле отказывается участвовать в непрекращающихся собственных похоронах. Это, однако, не та «малая» литература, что служит голосом коллектива меньшинства и роет норы в языке, подрывая гегемонию большинства.[21] Это и не эмигрантская литература, ностальгирующая, изобличающая или эскапирующая «в глухой провинции у моря», и не маргинальная бедная родственница в семье израильских литератур.[22] Это, наконец, не та литература, в которой Александр Гольдштейн видел «средиземноморскую ноту»,[23] которая чаяла утешения в поисках новой региональной и экзистенциальной идентичности. Это поэзия освобожденной речи, но освобожденной не от традиции, а от «нищеты историцизма»,[24] от революционной диктатуры социальности в эстетике. Вопреки ожиданиям новомодных теорий она достигает глубочайшего выражения подлинных чувств вдали от эмоциональной идентичности, а также не стыдится интеллектуальных достижений своей культуры, не ищет «причин, / зацепок, подоплёк, попыток оправдаться».[25]
Поэтому не удивительно, что свобода, освобождение места для новой, «свободной и ясной»[26] жизни — «как падение с высоты в новую высоту»[27] — становится одной из главных тем книги. В эту новую реальность, «свободные слова в наш новый мир вплетя», поэт приглашает и читателя: «и так мы заживём, как заживают раны».[28] Свобода у Крайтмана неотделима от любви и гармонии, дочери Афродиты и Ареса, которая заставляет слова сливаться в объятии:
слова приобретали форму губ –
предвечную, единственную форму.
как описать движенье тишины,
преображенье атомов в породу
доселе неизвестную,
где мы…
обнявшись, мы выходим на свободу,
где обретаем силу превозмочь
окрестности, всю эту злую стражу.
где мы иному вручены пейзажу.
как та звезда, что пе́режила ночь.[29]
Возвращение к «предвечным» корням поэзии, когда снова «всходят зёрна царственных мелодий»,[30] и есть путь к свободе. Мышление поэта предельно мифологично, и поэтому предметно-телесно и метафизично одновременно. С одной стороны, оно сродни эмоциональному и эпистемологическому мироощущению еврейской средневековой или даже римской поэзии, некоторые жанры которой упоминаются в книге, а с другой — предвещает новый «рассвет»[31] и пытается завязать разговор уже с завтрашней аудиторией. Насколько это удается поэту, судить читателю…
[1] Крайтман С. снова о готике. С. 36.
[2] Бодрийяр Ж. Совершенное преступление. Заговор искусства / Пер. с франц. А. В. Качалова. М.: Рипол Классик, 2019.
[3] Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982-1985 / Пер. с франц. А. В. Гараджи. М.: РГГУ, 2008.
[4] Фукуяма Ф. Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия / Пер. с англ. А. Соловьева. М.: Альпина, 2019.
[5] Dickie G. Art and Value. Malden MA, Oxford: Blackwell, 2001.
[6] Крайтман. снова о готике. С. 62
[7] Павлов А. Семён Крайтман. «про сто так» // Зинзивер № 6 (74). 2015. https://magazines.gorky.media/zin/2015/6/semyon-krajtman-pro-sto-tak.html.
[8] Тарн А. Торжество Божественной непрерывности (заметки о поэзии Семена Крайтмана) // Холмы Самарии. http://www.alekstarn.com/krite.html.
[9] Крайтман С. «про сто так». Иерусалим: Библиотека «Иерусалимского журнала», 2015. С. 32.
[10] Там же. С. 35.
[11] Там же. С. 39.
[12] Крайтман. снова о готике. С. 26.
[13] Там же. С. 34.
[14] Там же.
[15] Там же. С. 35.
[16] Там же. С. 46.
[17] Там же. С. 73.
[18] Там же. С. 155.
[19] Там же. С. 49, 50, 155, 170, 203.
[20] Там же. С. 176.
[21] Делез Ж. и Гваттари Ф. Кафка: за малую литературу / Пер. с франц. Я. И. Свирского. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.
[22] Mendelson—Maoz A. Multiculturalism in Israel: Literary Perspectives. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2014.
[23] Бараш А. Была идея русской литературы Израиля // Лехаим. № 8 (208). 2009.
[24] Поппер К. Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993.
[25] Крайтман. снова о готике. С. 66.
[26] Там же. С. 167.
[27] Там же. С. 48.
[28] Там же. С. 66.
[29] Там же. С. 92.
[30] Там же. С. 203.
[31] Там же.
