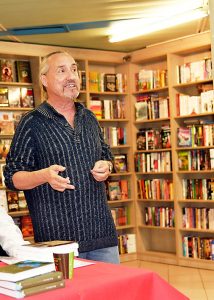
ЧЕТВЕРО
незаконченный роман
1
Автобус, точнее хавтобус, благо работает на хашмале, без выхлопов, загрязняющих окружающее, эта белая изящная полусфера с жёлтой надписью на борту «Сделай Тель-Авив чистым!» бесшумно и плавно отплыла от остановки. Шайтан-арба, четвёртый чёрт, вице – в цвету, подумал Никита философски, бисова бричка, соразмерный экипаж, в котором жиды полсотнею отправляются, правы классики скопом.
Весенний воздух парил и дрожал над раскалённым асфальтом. После автобусного, условно говоря, оледенения духота охватила сразу, навалилась здешняя влажность, распаренность – как в «Сибирских банях» на Дизенгофской.
Никита пошёл по Мосту Фиг. Так его в народе называли, а официально это был Мост Фанни и Геси. Просто привыкли все, и даже район этот тель-авивский с офисными небоскрёбами и деловыми квартирами звался Фиговка.
Под мостом проходило шестиполосное шоссе – шуршали стада машин, порхали невысоко зелёные воздушные самокаты. Поодаль, на травянистом холме белел Монастырь Умученных Сестёр Духовных – кукольные башенки за каменной оградой, цветущие черешки сада, поросшая плющом часовенка. Оттуда, с холма, лился тихий колокольный звон – сестрицы музицировали. Бес гол, а лес бос, ухмыльнулся Никита, упорно двигаясь по мосту в редакцию. Форсировать мост! Перила чугунные нынче опять были выкрашены радужно и украшены надувными сердечками – эх, девы неугомонные!
Фиговый мост, заканчиваясь, вливался, переходил в шумную обширную улицу Гершуни. Здесь подстерегал путника оживлённый перекрёсточек, конечно. Шли непрерывной лавой, тьмой машины, а на бетонном пятачке кучковались, переминались прохожие – ждали, когда светофор «озеленит» зебру, протравянит тропу.
Упрямо, неугасимо горел «красный». Подошёл насельник перекрёстков, дервиш-праведник, или как их называли с правильной тель-авивской картавостью – «юдодивый». Ну, автохтонная фауна. Дервиш был в шапке-ушанке (эх, Сибирь неистребимая!), одно ухо задрано к солнцу заратустрно, на лбу жестяная звёздочка-шестиконечка с крестиком внутри – крыжаль хиудова. Протянул корявую руку за милостыней. Никита покорно опустил медную монетку в немытую ладонь. Божий человек пробормотал что-то вроде «Давай – и воздастся, давай-давай», отвернулся от Никиты и двинулся прямо через дорогу, попёр поперёк движения, невзирая на поток машин. Причём не особенно и лавировал, машины как-то сами его огибали.
А Никите надо было в редакцию – на Гершуни, угол Багровской. Приходилось пробираться, словно в тайге на гоне али в ручье на нересте – здешние людишки кишели. Сроду на Фиговке человеку не протолкнуться – тут гнездились штаб-фатеры международных гешефтмахеров, хазы крупнейших банков, глобальные лавки менял, транснациональные ссудные конторы – заимки, по-местному. Здесь шустрила Алмазная Бурса и её ухари-бурсаки бриллианты гранёными стаканами меряют!
На Гершуни и запах стоял особенный – золотыми приисками несло и пушниной. Иногда, что естественно, бурбоном-сырцом и убоиной шибало.
Старомондные коробчатые мазганы на бесчисленных окнах небоскрёбов (эти штуки и воздух холодят и кормушкой для птиц сажающихся служат, мелкое святое дело) капали вниз конденсатом, порой и туман начинал клубиться. Бредущий в спотыкающейся и толкающейся толпе Никита едва не проскочил в утренней мути ответвляющуюся улочку Мордки Богрова. Забавно таки звучали в Тель-Авиве странные сибирские прозвания, имена древних героев-висельников, дщерей и сынов израилевых, сложивших животы своя на алтарь-бину, сказано же – «по ним Сибирь плачет».







