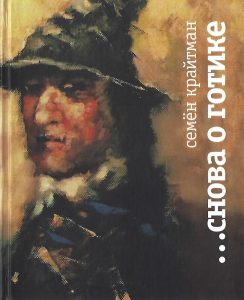Еще раз о еврейской теме в литературе
«Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт Отечества не выбирает,
Просто играет всю жизнь напролет.»
Б. Окуджава
Тексты Танаха выверены тысячелетиями. Гениальный Томас Манн создал грандиозную книгу под названием «Иосиф и его братья».
Два тяжелых тома повествуют в мельчайших подробностях о том, что происходило на Святой Земле почти три тысячи лет тому назад.
Писатель попытался повернуть время вспять. И вот, когда книга уже прочитана, в сухом остатке, в нашей памяти остается только изложенная уже в Библии история о том, как братья продали Иосифа в египетское рабство. Все подробности, детали быта скоро улетучиваются.
В 17-м номере журнала «Артикль» напечатан замечательный поэтический рассказ Анны Файн «Горький запах свободы», где за основу своего повествования она берет историю о выходе народа Божьего из рабства.
«Случилось: некий раб полюбил рабыню.» «Они были даже не знакомы». «Одна из них прошелестела подолом платья по голове сидящего раба, словно это мать погладила его сухой легкой ладонью. От ее подола шел запах горькой полыни, пустыни. То был запах свободы. Он знал это – когда ветер гнал полынный запах в их ном, мать говорила ему: так когда-то пахло у нас на родине. Он поглядел на уходящую рабыню. По ее спине, прикрытой льном, вились спутанные побеги волос – так вьется плющ по стене. Ее худые коричневые ноги мелькали быстро-быстро, показывалась то одна иссеченная трещинами, измазанная глиной ступня, то другая. Под коленкой, на голени у нее было крупное родимое пятно. И этот раб полюбил ее…»
Казалось бы, это фантазия, но так бывает в юности, и даже не в юности: человек любит образ случайно возникшего перед ним существа противоположного пола. И это очень точно подмечено. История этой любви изложена замечательно. Не понимаешь даже, проза ли это, или стихи. Но вот падает с неба «манна небесная». И рабы ропщут: «Нам бы мяса!»
И здесь начинается описание ужасов египетского плена: «Котлы с мясом подвозили к бараку на храмовые праздники…», » подвезут котел к бараку и поставят во дворе – один на всех. А мы бежим с мисками и ложками. Когда подберешься к котлу, рассиживаться нельзя – знай хватай, что в черпак влезло. Те, что за спиной, уже толкают тебя, подталкивают, чуть не в котел окунают. А задержишься – еще и миской по голове ударят…». Что это? А не Варлам ли Шаламов все это написал? Бараки, миски, ложки, очереди… Понятно, что это – намек на Советский Союз.
Но если Варлам Шаламов отсидел в сталинских лагерях и застал страшное время, то наша ровесница Анна Файн этих ужасов уже не увидела. И уезжали мы из Советского Союза в «горбачевскй период». Большей свободы, чем в это благословенное время не было и уже никогда не будет ни в одной стране. Мы не толкались в очереди за мясом. Мы перестали бояться друг друга. Мы доверяли власти. И не нужны были десять казней египетских, чтобы всех желающих выпустили из страны. Поднялся «железный занавес».
Но вот повествование возвращается в свое поэтическое русло, продолжилась история любви раба и рабыни…
Изумительно описан переход через Море Растений: «Море расступилось. Мы все шли по мокрому песку. Но это только так говорится — по песку. Ведь Море Растений не зря так называется. Там чего только не растет. Кораллы, например. Это такие полукамни, полуцветы…»
И уже до конца повествования писательница выдерживает ту высокую поэтическую ноту, которую взяла в начале.
Но библейские мотивы не заканчиваются на повествовании Анны Файн.
Вот уже писатель Михаил Гельфанд пытается по-своему интерпретировать историю Эстер и Мордехая. Историю, которую каждый год мы заново перечитываем в праздник Пурим со своими детьми. Он пытается писать библейским слогом: «И явился император Ашшура, Шалманшар и осадил Самарию, столицу десяти племен, город, сверкавший, словно драгоценность, на высоком холме над плодородной равниной».
В прологе мы читаем о том историческом периоде, который, собственно, предшествовал рассказу об Эстер – спасительнице народа.
Существуют несколько версий о том, кем приходились друг другу Эстер и Мордехай. Одна из версий гласит, что Мордехай был дядей Эстер и одновременно ее мужем. Михаил Гельфанд выбирает версию о том, что Эстер была двоюродной сестрой Мордехая.
«Принес он, со слезами на глазах, единственную дочь дяди своего из опустелого дома ее родителей, да будет благословенна память их обоих.» Писатель делает смелое предположение о том, что Мордехай был тайно влюблен в мать Эстер: «Много раньше, когда принес Мордехай крошечную девочку из дома дяди своего и жены его, женщины, которую любил он больше всего на свете, не смея ни словом, ни даже взглядом выразить свою любовь.»
Далее Михаил Гельфанд развивает тему: он наделяет Мордехая женой – наставницей юной Эстер и двумя сыновьями. Один из сыновей, естественно, питает чувства к самой Эстер.
Писатель подробно описывает быт и жизнь Вавилона. Он наделяет Эстер недюжинными умственными способностями и великолепным образованием. Он изображает Мордехая владельцем несметных сокровищ, коммерсантом, управлявшим мировой торговлей. И всегда при нем юное создание – Эстер, вникающая в тайны счетных книг: «Сажал Мордехай ее рядом с собой. Сажал и тогда, когда вел он счетные книги и когда выслушивал отчеты караванщиков и тамкаров и капитанов кораблей…»
«Звучали отчеты, и записывал старший из слуг, доверенный счетовод, то, что Мордехай приказывал ему записать. И не раз случалось так, что кроха Эстер подавала Мордехаю на диво разумные деловые советы.»
Неспешно льется рассказ о быте и обычаях Вавилона, о том, что пили, ели, как отдыхали в семье Мордехая.
Вот на страницах повествования появляется Вашти – жена царя. По одной из версий Вашти была изгнана из дворца во время пира, когда и решался вопрос о том, быть ли народу Израиля, или погибнуть. Гордая Вашти отказалась танцевать перед царем и придворными. Вот тогда-то Мордехай молниеносно выводит прекрасную, юную Эстер «перед царевы очи.» И Эстер самозабвенно танцует и покоряет своей красотой сердце старого сластолюбца. Вашти, близкая к Аману, изгнана. И теперь ее место займет прекрасная и дерзкая Эстер. По этой версии события разворачивались стремительно. И не было времени у Мордехая на раздумья. Ему нужно было любой ценой «скрутить» Амана.
И вот уже под влиянием ставшей дорогой его сердцу Эстер царь приказывает повесить Амана и его сыновей. Амана, замыслившего истребить народ Израиля. Отведена смертельная угроза. Аман повешен, уши его отрезаны. Народ Израиля ликует и прославляет Эстер и Мордехая. И эта радость передается через века и тысячелетия. Все остались живы. «Ле-хаим», — говорят евреи. «За жизнь!»
В судьбе Амана просматривается и жребий нацистских преступников, осужденных на Нюренбергском процессе. Они тоже были повешены, хотя к этому времени существовало множество других способов расправы.
Что же такое еврейская тема в литературе? Не обязательно брать сюжеты из Торы и обыгрывать их в собственном исполнении. Они так отшлифованы временем, что вряд ли возможно что-то улучшить и усовершенствовать в них. Я вспоминаю роман Ирины Маулер «Под знаком перемен, или Любовь эмигрантки», где действие происходит в 90-е годы. Это роман о нас с вами – о репатриантах и их судьбах. О тяжелых испытаниях, выпавших на долю эмигрантов. Но написан он легко, вдохновенно. В романе море юмора. И оставляет он по прочтении светлое чувство, которое, конечно же, связано с личностью автора.
В ее романе есть нечто общее с произведением М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия», с той только разницей, что роман Маулер заканчивается относительно счастливо.
Наша сегодняшняя жизнь не менее интересна, чем предания предков. Кто знает, возможно хасидские рассказы Якова Шехтера, романы Афанасия Мамедова, книги Михаила Юдсона, рассказы Риты Грузман, — сложатся в летопись и составят правдивую картину нашего времени и не так давно прошедших времен.
Я хочу отдельно остановиться на поэзии Ирины Маулер. Жизнь посылает некоторым поэтам такую судьбу, которая с первых же шагов ставит их в самые благоприятные условия для развития природного дара. Все в окружающей среде способствует скорому утверждению избранного пути. Уже в школьном возрасте Ирина начала писать стихи. Еще в Москве начала печататься. Но первые ее сборники вышли в свет уже здесь, в Израиле. Они были замечены читающей интеллигенцией, появились рецензии. Внимание к ним привлекла недилетантская зрелость стихотворной речи. Крепнет упругость стихотворной строки, расширяется диапазон речевых, вскрывающих правду чувства интонаций, ясно ощущается стремление к сжатой, краткой и выразительной манере, где все ясно, точно, стремительно в ритме, но вместе с тем и глубоко лирично.
Сжатостью мысли и энергией чувства отмечены стихи Маулер.
Вот новое стихотворение «Израиль»:
«Что такое еврей – мишень для камней,
Для травли и для поля боя идей.
Евреи во всем виноваты.
Еврей, это вместо – «плохиш», вместо – «зверь»,
Которого надо – ату! И за дверь…»
Сила ее стихов – не в зрительных образах, а в завораживающем потоке все время меняющихся, гибких, вовлекающих в себя ритмов. То торжественно-приподнятые, то разговорно-бытовые, то песенно-распевные, то задорно-лукавые, то иронически-насмешливые, они в своем богатстве мастерски передают особенности ее емкой и меткой речи. Звуковые сочетания ее поэзии не заботятся о гладком благозвучии. И поэтому ее стихи всегда чуткий сейсмограф сердца, мысли, волнения, владеющего поэтом.
«Зачем нужны стихи – затем
Чтоб страх и сырость с серых стен
Стереть, всего сложив слова,
Но так, чтоб комната жила,
Дышала, полнилась теплом,
Чтоб счастье и любовь вдвоем,
Обнявшись, за руки взялись.
И так на всю страницу – жизнь.»
Взволновано и гневно звучат стихи Ирины Маулер, направленные против антисемитизма, против духовного оскудения и пошлости.
И тут же совершенно прекрасные, отвлеченные, «высокие» стихи, лишенные социальной направленности:
«Кашка скоро превратится в кашу,
Платья маков красные завянут,
Солнце по утрам надсадно кашлять
Будет, нарушая сны и планы.
Доведет до белого каления,
Раскидает нежность и надежду.
Надо будет белые одежды приготовить,
Но пока есть время.
На добычу слов и снов весенних,
На восторг и ожиданье счастья,
И на то, что сядет на колени
Бабочка по имени Удача…»
Это совершенно замечательное, «акварельное», просто ахматовское стихотворение:
«Крылышки прозрачно кареоки.
И загар от усиков до брюшка.
Видимо летела издалека
И присела подзаправить душу.
Нашими полями и лесами,
Нашей ближнею восточной пеной.
Что взбиваем днями и ночами
Мы величиною переменной.
Здесь живу, и дальше ни ногою
Мне нельзя пока, ну что же делать…
Бабочка с восточною косою,
Приходи со мною пообедать.»
В израильской поэзии Ирина Маулер занимает особое место. Новизна и свежесть ее поэтической речи – это воплощение в словах ее мятущегося, ищущего истины, беспокойного духа.
Замечательный рассказ Якова Шехтера «Прямая трансляция из преисподней, или двести лет спустя», глава тринадцатая романа «Бесы и демоны» повествует о жизни Ицхока-Лейбуша, габая синагоги «Биберман» в Бней-Браке. С юмором и сарказмом Шехтер пишет о демонах и прочей нечистой силе, пытающейся погубить душу праведного пожилого человека. Читатели со смехом находят в образах демонов что-то «до боли знакомое…»
Пошлая, грубая и бессовестная сила вторгается в жизнь этого человека. Мы читаем о том, как он то поддается, то противостоит соблазну. И каждый из нас задается вопросом: если за такие невинные прегрешения его ждет столь суровое наказание, то что же будет с нами, грешными?
Грустная история самого Ицхока-Лейбуша перемежается в рассказе со сценами из жизни демонов. И все это вместе создает атмосферу совершенно своеобразного юмора, не похожего на юмор знакомых нам писателей (и Гоголь, и Щедрин, и Булгаков писали совершенно в другой манере).
«Долго сомневался Самаэль, выбирая наиболее достойного. Наконец выбор пал на солидного пожилого демоняку по имени Перец. У демонов ведь тоже имена есть, подобно людям, и они, подобно им, рождаются, умирают, едят, пьют и размножаются. Самые близкие к человеку существа. Ласково поглядел Самаэль на посланца:
— Давай, дружок, мчись в Бней-Брак, задай там перцу. Не подведешь?
— Не подведу, ваше злодейство, — гаркнул демон, вытягиваясь в струнку. -Можете на меня рассчитывать.»
Никто из «литературоведов» до сих пор не смог ответить на вопрос: что же такое талант? Я не берусь отвечать на этот вопрос, но есть критерии, по которым я для себя определяю, хорошая книга или плохая. Это в первую очередь, желание прочитать произведение от начала до конца. Мне должно быть интересно. И, во-вторых, это особая энергетика таланта, которая вдохновляет, дает заряд жизненной энергии. Всеми этими качествами обладает писатель Яков Шехтер. И его произведения волнуют людей, независимо от их взглядов и даже вероисповедания.
Завораживает в этих рассказах не только сюжет, но и ощутимое в них невидимое присутствие Б-га.