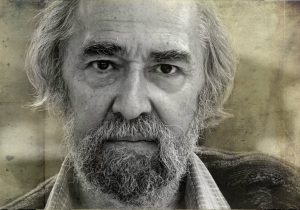Японская железная дорога
Читаю книгу интереснейшего писателя-пешехода, где он внимательно исследует свои впечатления, чувства и мысли, и думаю, как точно он себя назвал. Ведь только при неторопливом пешем ходе, помогающем созерцанию, можно всё это отследить и обдумать.
А меня можно было бы назвать учительницей-приключенницей. Неловко, громоздко, но верно. При всём моём отвращении к жизненным и путевым передрягам (сыта по горло) приключения в анализе литературных текстов – любимое занятие. Да ещё и ученик подвернулся подходящий. Вернее, не подвернулся, а кропотливо выращен. Шестнадцатый год ращу его – и себя, благодаря ему.
«Бедный мальчик!» – сказала одна литературная дама, услышав, что сейчас мы читаем с ним «Воскресение» Толстого Льва Николаевича.
«Это читабельно?» – удивилась сверху вниз другая дама, математическая. Математики, как я заметила в процессе систематического общения, вообще на мир смотрят сверху вниз со своих абстрактных математических вершин. И пусть бы, но зачем сверху вниз – о литературе? Мир вообще не любит, когда на него – сверху вниз.
Другая, тоже математическая, дама из Калифорнии доступно объяснила мне, не отягчая речь аргументами, что математики – главные люди в нашем мире, и выстроила иерархию, по которой чистые математики, такие, как её муж, известный профессор, находятся на самом верху. Другие, не такие известные, как она сама, – немного ниже. Третьи, что не выдержали разрежённого воздуха чистой математики и ушли в другие науки: экономику, биологию и т.п. – она назвала, к моему изумлению, известные нам обеим имена – ещё ниже, но всё-таки достаточно высоко. Она не продолжила, проверяя, усвоила ли я урок, и решила, что с меня хватит. И я осталась болтаться у подножия возведенной ею башни с вечными литературными текстами, неразрешимыми вопросами, бесконечно вылезающими из них, и вольно пристроенными деепричастными оборотами. Но не одна, а как раз с тем самым учеником. А он именно чистый математик, правда, пока только докторант. Пока.
Вертикальная картина мира, уверенно заявленная калифорнийской дамой, была принята мною к сведению, но моей никак стать не смогла, ввиду её незатейливой примитивности, и после возвращения из далёкой поездки я как раз и предложила ученику прочесть нечитабельное «Воскресение».
– Зачем мы это читаем? Толстой что, больше ничего интересного не написал?
– Интересное читай, пожалуйста, без меня. Я здесь для чего? Чтобы интересным стало сложное, непонятное с первого раза.
Про Катюшу Маслову понятно и так. Нехорошо соблазнять беспомощных девушек и уходить не оглядываясь. А вот про «внутреннего» и «внешнего» человека, которые живут в каждом и борются между собой насмерть? И что случается, если побеждает «внешний» человек, носитель жизненных правил и установок жизненного окружения? А что – если побеждает «внутренний» человек, то есть, выработанные им самим установки и правила в соответствии с базовой религиозной моралью?
– Да, это интересно. Но зачем он всё время повторяет? Кружит и возвращается в то же место.
– Думаешь, в то же? Сравни и подумай, зачем повторяет? Как углубилась мысль? Расширилась? Пересохла и исчезла или наполнилась новым смыслом и превратилась в свою противоположность? Или окрепла и стала убеждением? Что-то может быть интереснее?
– Нет, не может. Но тогда скажи, что означают слова «Товарищ прокурора был от природы очень глуп»?
Ученик обращается ко мне на «ты». Родной язык его – иврит. Русский он пришёл ко мне учить в предпоследнем классе школы и не смирился с недемократичной вертикалью «ты – вы». Когда я попыталась сказать ему «вы», ученик возразил: «Я один. Я здесь один». И не то, чтобы он не знал этических норм русского – я ему сообщила о них своевременно – он понял, но не принял. И я легко согласилась – мы на «ты». Я тоже демократка, и горизонталь мне дороже вертикали.
– Как можно быть глупым от природы? – продолжает ученик.– Он ведь не болен. Да и больной вовсе не глуп, а болен.
– Нельзя, – соглашаюсь я. – Глупый/умный – это социальная норма. То, что в одном социуме ум, в другом – как раз глупость. Так бывает. Помнишь, Самуил Лурье – я рассказывала тебе о нём – сказал: «Человек сам выбирает, быть ему умным или глупым». Выбор не может быть от природы. У природы выбора нет. А в демократическом обществе человек может выбрать даже социальную страту. Но ты посмотри, как Толстой, живущий в патриархальном обществе, где возможности выбора существенно ограничены, дальше уточняет свою мысль. Почему золотая медаль – это несчастье, и награда за сочинение в университете – тоже несчастье? Почему успех у дам усугубляет это несчастье, по мнению Толстого?
— Товарищ прокурора стал самодоволен, – отвечает внимательный ученик, – и «вследствие этого был глуп чрезвычайно».
– То есть он стал «глуп чрезвычайно» вследствие свалившихся на него несчастий, которым не смог или не захотел – не считал их таковыми, поскольку в его среде они почитаются достижениями – противостоять. Глупость, по Толстому, – следствие самодовольства. Посмотри, сколько раз он в дальнейшем употребляет это слово. Будто забивает гвоздь, и ещё один – для верности, и ещё… Чтобы надолго, чтобы намертво.
– Но зачем тогда сначала писать, что он был глуп от природы? Чтобы потом это опровергнуть?
– Думаю, да. Чтобы разрушить стереотип, надо вначале его обозначить, назвать. Сейчас любят говорить «гены, во всём виноваты гены», а Толстого не читают, хотя думают как раз, что читали. Он для очень многих «нечитабелен».
– Неужели русские не читают Толстого? – удивляется потомок выходцев из Йемена и Марокко.
– Читают. Он входит в школьную программу. Но от огромного большинства такая литература отскакивает, как от стенки. Они предпочитают «читабельное». Слово-то какое скользкое. Чтобы без усилий, чтобы как на санках – с горы. Их формирует, явно, не Толстой. Иначе разве могло бы произойти в России то, что произошло, и то, что происходит сейчас?
– А что там сейчас происходит?
– Нет, не сегодня. У меня на это нет душевных сил. На следующем уроке. Нет, не на следующем, потом когда-нибудь.
Параллели очевидны. Там, на нашей с Толстым родине, изменилось очень мало, если изменилось вообще. Но объяснять это здешнему ученику долго, и я не уверена, что нужно.
Приключение оказалось выматывающим. Мне нужно отдохнуть и подумать.
Ученик смотрит на меня внимательно и говорит: «Тебе больно. Тебе больно, что они не читали Толстого».
Да, мне больно, что не читали Толстого, Чехова, что так плохо читали Гоголя и Лескова, и всех тех, что многое поняли сто и двести лет назад и пытались предупредить, удержать, уберечь. Или не поняли и не пытались, но описали так точно, что читателю грех не понять. Вот уж, поистине, литература ничему не учит. Научить можно лишь того, кто хочет учиться. Мне ли не знать. Я ведь учительница.