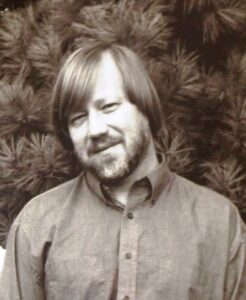Дызайнэр Жора
главы из пишущегося романа
Глава первая
– Жорка! Жо-о-орка! Ты где опять законопатился, паршивец! Вот погоди, найду, будешь уши свои оборванные как грыбы собирать. Вот найду, ох найду-у-у!
Не найдёт. Она никогда его не находит. Поорёт и захлопнется…
Жорка очень зримо представляет себе, как Тамара захлопывается: лязгают зубы, губы защёлкиваются на замочек, медленно, на шарнирах опускается крышка черепа, который проворачивается и завинчивается для надёжности на костяной резьбе позвонков; в ушах Тамары – замочные скважины, в каждой крякает ключ… И вот она стоит, закрытая шкатулка, стоит и стоит себе, никому не надоедает, не орёт, не угрожает отослать его в Солёное Займище – «свиней с Матвеичем пасти»…
Стоит и стоит, пока он не отопрёт её и не запустит в дело.
В который раз ему приходит на ум, что в человеческой голове можно бы устроить парочку нехилых тайников. Он и сам сидит сейчас в тайнике, в одном из своих укрытий, разбросанных по двору. Это пещерка такая в поленнице дров, сложенных под навесом у самого забора, он её третье лето обустраивает. Между поленницей и дощатым забором есть зазор для лучшей просушки дров. Проникнуть туда нормальному человеку немыслимо, но Жорка тощенький, плоский, как шпрота, он втискивается бочком. Осторожно и медленно вытягивает несколько поленьев, расставляя по бокам упоры – вертикальные сваи, чтобы не завалило его тайную пещерку; забирается внутрь и проползает к продольной щели меж двумя чешуйчатыми полешками…
Удобная позиция: перед ним – весь огромный двор. Вон за спиной разъяренной Тамары ступает с крыльца соседка с полным тазом выстиранного белья. Видать, опять поругалась с Шестым, обычно тот самолично развешивает стирку – свои кальсоны, необъятные панталоны жены. Ясно, поругались: высокий восточный голос Шестого из окна их кухни:
– Я вас очччень уважаю, Ольга Федосеевна, но я вас посажу!
– Ой, напугал, посадит! – звонко кричит та, мощно протряхивая на обеих вытянутых руках мокрые сиреневые рейтузы, протяжные и тяжелые, как занавес клубной сцены. – Меня и в тюрьме покормят, а ты без меня с голоду сдохнешь!
Жорка сидит в тайнике, и в продольную щелку между поленьями (сам вырезал ножичком), наблюдает за Тамарой. Какое наслаждение следить за ней, оставаясь неуловимым! Скоро ей надоест скандалить в пустоту, она плюнет себе под ноги, повернётся и уйдёт в дом. Или станет базарить с соседкой, вон та уже занимает кальсонами нашу веревку. Впрочем, вряд ли у Тамары хватит пороху сцепиться с Ольгой Федосеевной.
Та чуть ли не каждый год брала себе мужа «на пробу». У соседей те получали порядковые номера. Ныне это был Шестой: маленький, вечно чем-то разгорячённый то ли чечен, то ли тат, то ли ногайский татарин, с курчавыми плечами и заливистым голосом. Этот слегка подзадержался, – видать, певучий их дуэт чем-то Ольге Федосеевне импонировал.
Самым удачным её мужем был Первый, который погиб в Польше, и там же, под Варшавой, похоронен. Теперь Ольга Федосеевна имеет право каждый год ездить к нему на могилу. Уезжает она всегда в драном, на живульку смётанном полупердине, в таможенной декларации при этом декларируя шубу; там, на месте, покупает уж истинно ШУБУ – дорогую, роскошную, натурального меха. В ней и возвращается, спокойно и неторопливо проплывая таможню, – так океанский лайнер, минуя маяк, входит в бухту; шуба – она шуба и есть, вы меня понимаете? Моя — заявлена, говорила Ольга Федосеевна (если вдруг таможенник попадался прилепучий), вон, в декларацию гляди. Может, те лупу дать для разгляду?
По возвращению домой продавала шубу с большим наваром. Гениальная была спекулянтка.
Ну, а домой сегодня Жорка, пожалуй, и вовсе не покажется, потому как, по всем приметам, у дядь Володи начнётся запой, сегодня ведь получка.
Когда у дядь Володи начинался запой, об этом мгновенно узнавали все соседи: он выносил в палисадник стол, ставил на него проигрыватель и стопку пластинок, водружал бутылку, а то и две, водяры, и некоторое время прохаживался гоголем, изображая «культурного человека». Поначалу шаляпинский бас громыхал над двором: «Блоха?! Аха-ха-ха-ха! Бло-ха!!!».
Блоху сменял Мефистофель, со своим знаменитым саркастическим: «Люди гибнут за металл!». В этот момент, как по часам, на крыльце возникала Тамара, жалобно подвывая: «Во-ов…но не на-адь…». «Сгинь, мымра жизни моей!» – гремел дядя Володя в одной с Шаляпиным тональности. Это, собственно, и знаменовало начало запоя…
Жидкость в бутылке стремительно убывала, оперные арии сменялись эстрадой: «А-ах, Арлекину-арлекину…» – раскатывала над двором Пугачёва, похохатывая, заводя весь двор, так что соседки, прополаскивая в тазу посуду каждая на своей кухне, подпевали: «Есть одна на-гра-да – смех!»
По мере погружения в бездну неутоленной любви и печали, песни становились всё задумчивей и философичнее: «…И когда я ве-ерила, се-ердцу вопреки-и… Мы с тобой два бе-ерега у одной ре-ки-и…».
Затем всё шло по нарастающей: со второй бутылки слетала крышечка, настроение песен менялось на торжественно-патриотичное: «День за днём идут года-а… Зори новых пАкАлений…». В какой-то момент дядь Володя пускался в пляс, горланя на весь двор: «Ле-енин всегда жи-во-ой…» – значит, дело близилось к развязке.
«Не ссыте, суки-граждане! Я закон бля-блюду!» Ровно в 22.55 он ставил гимн Советского Союза и выслушивал его стоя, с зачина до резины финального аккорда, правой ладонью отдавая честь, левую положа на сердце. Этот этап запоя можно было считать торжественной увертюрой.
На другой день с утра начиналось первое действие данной оперы: скандалы с верхнего этажа и до самого низу. После энной бутылки водки дядь Володя приступал к обходу соседей. Минут сорок, цепляясь за перила, вздымал себя на третий этаж, где (будучи левшой), в первую очередь ломился в квартиру профессора Федорова – ту, что слева. Получив там пизды (выражение самого профессора), отлетал к противоположной двери, к профессору Случевскому, получал и там того же, и рывками скатываясь на второй, а затем и нижний этаж, всюду скандалил и дрался, и просил на жопу орден, пока, наконец, украшенный фонарями и ссадинами, на славу отмолоченный, не вываливался во двор, где ссал на развешенные для просушки простыни. Тут на святую защиту своих простыней выбегала, с мухобойкой в руке, другая Тамарка, Тамарка-татарка. Рука у неё была тяжёлой, дралась она, уворачиваясь от ядовито-желтой мочи алкаша, метко целясь и удачно попадая. Тогда на защиту кормильца шла в бой Володина жена Тамара, крича: «На больного человека, блядь, на больного человека!!!». Их поединок вокруг дядь Володи, который путался под ногами, меж кулаками и коленями двух этих женщин, становился завершающим трио, грандиозным финалом оперы.
Где в это время были остальные соседи? Болели! Болели громко, увлеченно, отдохновенно: такой спектакль! Высыпав на деревянную галерею («Уж ложи блещут»), свешиваясь из окон, орали: «Тамарка! По яйцам ему, гаду, союз бля ему нерушимый, чтоб ему всраться!!!» – и в этом могучем единении, в этом народном порыве, не было, вот уж точно, ни научной элиты, ни рабочего класса, ни эллина, ни иудея.
Следующие дня три дядь Володя просто тихо пил; за окном кухни на первом этаже маячила лишь сивая макушка его поникшей головы. А выйдя из запоя, ходил по соседям по той же траектории, сверху вниз, вежливо стучась в каждую дверь и со скорбным достоинством принося свои глубокие извинения.
В остальные дни месяца Владимир Геннадьевич Демидов, человек уравновешенный и неразговорчивый, работал бригадиром ремонтников на судостроительном заводе имени Третьего Интернационала, для чего каждое утро тащился на трамвае через Жилгородок на другой конец города.
***
Перед Жоркой в щели его тайного убежища – полуденный двор их волшебного многоколенного дома. Главное, видна арка, где, в конце концов, должен возникнуть Агаша, его дружок-закадыка; хотя, кажется, этот момент никогда не наступит. Да нет, закончатся же, в конце-то концов, уроки в школе, куда сам Жорка сегодня решил не ходить – а что он там забыл? Что забыл он там именно сегодня, когда математики нет по расписанию, а водонасосная станция под Желябовским мостом должна спускать из Кутума воду в Волгу? Вот это радость, вот это ликование для пацанов! В такие дни они всем двором бежали на Кутум охотиться на раков. Главное, надеть резиновые сапоги и не забыть ведро. Дно Кутума покрыто глубокими лужами, там и сям обнажена глинистая земля, заваленная камнями. Ты спускаешься вниз (набережная Кутума метров на пять, а то и больше, выше уровня речки), бродишь меж камней, переворачивая их палкой. А под камнями копошатся, извиваются раки. Собираешь их в вёдра, моешь в принесенной воде, а когда стемнеет, разводишь на берегу костёр…
Из подобранных железяк-арматурин мальчишки сооружают треногу, на неё подвешивается котелок. Дождавшись, когда вода закипит, солят её и забрасывают в неё раков… Жуткое, но увлекательное зрелище: вода бурлит бурунчиками, рак вздрагивает, дёргается и крутится… В воду хорошо бы добавить пиво, от него рачье мяско становится нежнее, и Жорка всегда надеется стащить бутылку «Жигулевского» у дядь Володи. Да у того разве задержится!.. Когда раки становятся красными, как жгучий перец, воду сливают, и смешиваясь с речной свежестью, вокруг разливается райское благоухание! Ох, и вкусные они, эти кутумские раки – крупные, мясистые! До ночи сидят мальчишки вокруг костра, отколупывая рачьи шейки, клешни, тщательно обсасывают корявые рачьи ножки…
Их никто не гоняет: пацанва занята, не безобразит, никого не задирает. А костёр – ну, что ж: пионерский, можно сказать, атрибут: все мы были пионерами, взвейтесь кострами, орлёнок-орлёнок…Интересно, а орлиное мясо – съедобное?
От Кутума, даже опустошенного, шел здоровый ядреный запах – не тины, а Волжской воды понизовья. Да, это вам не Ульяновская Волга: это – дельта, здесь всегда пахнет изобильной рыбой.
Жорка лежит, животом ощущая колкие чешуйчатые поленья, панорамирует в щелку двор и наслаждается тем, что сам невидим и неуязвим. Его нет! Ну, почти. Он же не дурак, знает, что наука ещё не достигла, хотя Торопирен уверяет, что грядёт то времечко, когда человек в любой момент исчезнет и в секунду перенесётся… да куда захочет! Ну, посмотрим-поглядим, Торопирен порой свистит, как дышит. Например, уверяет, что может управлять любым самолётом. Ха! Да он во время войны сам пацаном был, какие там самолёты, откуда!
Нет, Жорка мечтает стать невидимым для других: вот он сидит в чьём-то выпученном глазу, крошечная мошка. Ему часто снятся такие прятки-сны: внезапно увиденная в стволе дерева щель, в которую он втягивается ящеркой; или круглая трещина у самого хвостика астраханского арбузища. Снились ещё музейные статуи (после культпохода шестого «А» в музей на улице Свердлова) – стоят они, полые, в незрячих глазах – отверстие зрачка. Его всегда завораживала, всегда тревожила гениальная конструкция человеческого глаза, его непроницаемость – в отличие от уха, например.
Спустя лет сорок он сделает остроумный тайник в резной фигурке окимоно: японский монах верхом на карпе. ХVII век, китайская резьба… Именно в глазу того карпа один его знакомец и вывезет из аэропорта Антверпена, наводненного полицией, редкой чистоты старинный изумруд, извлеченный из знаменитой тиары некой венценосной особы. Изящные вещицы эти окимоно: слоновая кость, тонированная чаем.
Ёмкость уха он тоже неоднократно использовал в своих целях, а тончайший пластырь телесных оттенков, с помощью которого лепил ухо Гусейну, прокаженному, потерявшему правое слуховище на пути из одного лепрозория в другой, заказывал впрок в маленькой театральной мастерской на улице Lamstraat, в городе Генте.
Весь мир он видел и ощущал, как игру, как перекличку тайников. У каждой материи и каждого предмета была своя тайниковая физиономия: лукавая или простодушная, покорная или коварная. Утюг был не просто утюгом, а возможным схроном для мелких предметов; тостер на кухне, простая клеенка на столе, сухая вобла… наконец, стена (о, стена – это извечная неограниченная возможность спрятать что угодно!) – ждали мгновенного клика его изощренного тайникового ума, дабы превратиться в укрытие. Он шёл по асфальтовой мостовой, и под ногами у него простиралась тайниковая прерия, океан неисчислимых возможностей по созданию тайны. Мир под его взглядом распадался, множился, расчленялся на тайники, закручивался и намертво завинчивался над тайниками.
В то время он уже носил имена в зависимости от страны пребывания. Целая колода имен, правда, одной масти: Жорж, Георг, Юрген, Щёрс… – выбирай, что нравится. От фамилии избавился давно. Никто её и не знал, и не видел, кроме пограничника в будке паспортного контроля. Ни в деловых переговорах, ни в тёрках никогда не мусолил фамилию. Казалось, он и сам её запамятовал. Просто: Дизайнер, как в том, еще советских времен анекдоте: «Вижу, что не Иванов».
Между тем, фамилия его была именно что – Иванов. Но представлялся он: «Дизайнер Жора» – Георг, Жорж, Юрген, Щёрс… Так его и Торопирен именовал, в мастерской которого он ошивался в детстве и отрочестве всё свободное время: «Дызайнэр! Ты – природный дызайнэр, Жора!». Звучало чуть насмешливо и кудревато, тем более, что Торопирен слегка катал в гортани мягкий шарик «эр» и вообще говорил с каким-то странным-иностранным акцентом. «Только тебе учиться прыдется. Много учиться!» – и улыбался чёрными пушистыми глазами болгарской женщины, и тыкал в потолок сарая аристократическим пальцем британского механика. Руки у него были противоречивые: красивой формы, гибкие, даже изысканные, но обвитые жгутами вен, как, бывает, растение выводит из тесного горшка наружу узлы корней.
– Учиться разнимать материю жизни. Понюхать, пощупать, слезами полить, матом покрыть…и снова ее собрать, но уже в собственном поръядке. Об-сто-ятельно, умоляю тебя. Нышт торопирен!»
Вообще-то, по-настоящему Торопирена звали Цезарь Адамович Стахура. Цезарь, ага, ни много, ни мало. Сам он произносил это имя с византийской пышностью, с ударением на А, слегка растягивая: ЦэзА-арь… «И он говорит мне, сука сутулая: «Цэзарь Адамыч, при всем моём к вам почтении, эта работа столько не стоит!».
Работал он слесарем-механиком в НИИ Лепры – да-да, в лепрозории на Паробичевом бугре, что на окраине Астрахани. Там же и обитал в мастерской – отдельном одноэтажном домике с подвалом, куда никого, кроме Жорки, не пускал. Изготавливал в своей закрытой, отлично оснащённой мастерской сложнейшие лабораторные приборы, вроде настольного стерильного бокса для манипуляций с культурами клеток, – в Союзе тогда не выпускали боксов такого типа. Каких только инструментов не нашлось бы в его мастерской: великая рать кусачек, пилочек, ножничек, тисков-тисочков… И разложены все ак-ку-ратнейше по родам войск, так сказать, в истинно немецком порядке. А был ещё такой специальный часовой микроскоп, куда вставлялись приборы иностранного происхождения, с именем французского сыщика: Пуансон. Множество, целый взвод. Каждый, как солдатик в окопе, сидел в специальной лунке, в старинном ящичке, на крышке которого написано было: «Potans Bergeon».
И действительно, любой самолёт был ему, боевому летчику, точно преданный пёс.
Это правда, Большая война обошла его боями – по возрасту; зато успел он попасть на другие войны в другой стране, где вдосталь повоевал и вдосталь налетался. После чего, прокрутив парочку смертельных виражей (фигур высшего уголовного пилотажа, типа ранверсмана или хаммерхеда), приземлился тут у нас в Астрахани, где косил под поляка, хотя, частенько пропускал словечко-другое на идиш…
Польша тогда вообще была у нас в моде: Анна Герман, Эдита Пьеха, «Пепел и алмаз» Вайды, «Солярис» Станислава Лема… ну и «Червоны гитары», и новый джаз, – не говоря уж о лаковых туфлях и приличных костюмах, серых, в полосочку. Польша была отблеском Запада и, несомненно, самым весёлым бараком в социалистическом лагере…
Стахура, да. Цезарь Адамович. Любопытно, что вот уж этот виртуоз международного криминального мира имени-фамилии своих никогда не менял.