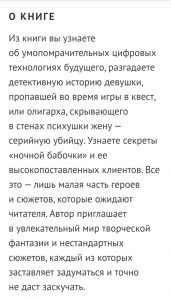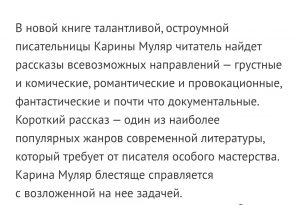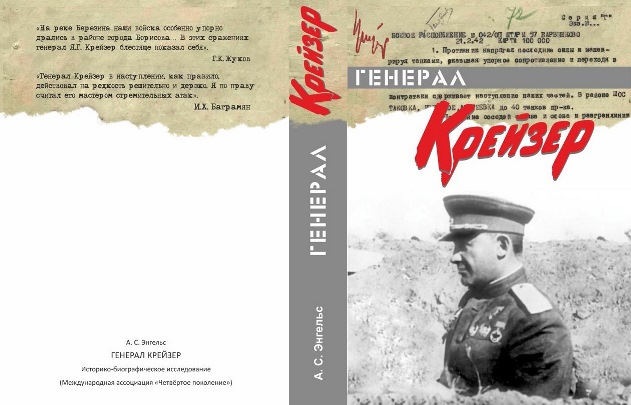«Дай нам руку в непогоду…»
Я не помню времени, когда бы я не знал Пушкина: он был всегда — как солнце, как ветер, как куры и собаки в увлекательнейшем пыльном переулке. Я всегда знал, что у Лукоморья дуб зеленый, а на неведомых дорожках следы невиданных зверей, — но мир леших и русалок казался ничуть не более странным, чем заросли картошки в огороде, где можно было провести целую вечность, следя за неведомыми дорожками жуков и лягушек. Пушкин — это было, прежде всего, ужасно интересно: поп — толоконный лоб, князь Гвидон, вылупившийся из бочки, исполинская голова, которая что было мочи навстречу князю стала дуть: «ду-уть» — «у-у» — зву-уки бу-ури — губы сами собой складываются для дутья. И я, разумеется, не обращал внимания на всякие пустяки, за которые Пушкина упрекали дельные современники: поступки персонажей как-то слабовато мотивированы. Ну и что — в жизни, которая меня окружала, я тоже не искал особой целесообразности. Главное — интересно. И страшно весело. Вернее, то страшно, то весело: ветер весело шумит, судно весело бежит…
Потом началось исступленное упоение его вольнолюбивой лирой: «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!» — стихия стихов подхватывала и уносила в пространство восторженного безумства, и некогда было вдуматься в разные полупонятности — какая-то «Цитера», какой-то «благородный след того возвышенного галла», все эти мелочи уже остались позади, почти незамеченные, как прежде не замечались игривые намеки: «падут ревнивые одежды на цареградские ковры», и «зачем тебе девица?». В стихах главное не буквальные бухгалтерские уточнения, а вихрь, который тебя увлекает: «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды!»
Я даже и не припомню, когда Пушкин превратился в школьный «предмет», который все проходят и проходят, и никак не пройдут: такое впечатление, что его каждый год начинали «учить» заново. Хуже того, стихи вообще превратились для меня в принудительную принадлежность школьных вечеров худсамодеятельности.
Сегодня я просто не представляю, как бы я выжил без Пушкина. Но в ту пору, в начале шестидесятых, к поэзии обратил меня не Пушкин, а самый громкий тогдашний поэт Евгений Евтушенко. Пушкин не отвечал на «запросы времени», а Евтушенко отвечал. В образе гидроэлектростанции из поэмы «Братская ГЭС» брезжила и победа над природой, и разумная, гуманная, научно обоснованная организация общества, — Пушкину вопросы такой глубины и злободневности, конечно же, и не снились! Это сегодня, после множества экологических и социальных катастроф XX века, уже усвоили — и то не все! — сколь опасна всякая «борьба с природой». А в ту пору мало кто сомневался во всемогуществе не просто человеческого, а именно нашего тогдашнего разума.
Но однажды вдруг застываешь в немом изумлении перед невероятной красотой простейших, казалось бы, строчек:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печальный свет она.
Застываешь не только в изумлении, но и в растерянности: как же совместить пушкинскую гениальность — а это должно быть что-то более или менее вечное! — с его явной отдаленностью от невиданно сложных проблем нашего века? И оказывается, что у Белинского в классическом цикле статей «Сочинения Александра Пушкина» все уже и сказано: Пушкин обладал удивительной способностью делать поэтическими самые прозаические предметы. Действительно, что может быть прозаичней, чем мостить улицы? А у Пушкина вот оно как:
Но уж дробит каменья молот
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Лишь для Пушкина поэтическая броня и будничная мостовая стали рядом! И мостовая у него не простая, а «звонкая», а город — так даже «спасенный». Но зато от жизни он отстал уже тогда, сто пятьдесят лет назад, ибо «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделалось теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего»[1].
Это меня вполне устроило: что правда, то правда — прозу превращать в поэзию он умеет, а удовлетворительных ответов на запросы времени не дает. Принудительное школьное преклонение перед Пушкиным достигло и другой цели: писаревские издевки над легкомыслием и отсталостью Пушкина я читал уже с неким щекочущим удовольствием: «Поэзия Пушкина — уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзиею в старые годы. Место Пушкина — не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с заржавленными латами и с изломанными аркебузами»[2]. Впрочем, Белинский признавал за Пушкиным еще одно достоинство: «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры»[3]. Более того: «Без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины»[4]. Быть предтечей Гоголя — для Белинского это предельно щедрая оценка. Даже более щедрая, чем титул «энциклопедия русской жизни», дарованный Белинским тому же «Онегину».
[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3-х томах. Том 1. М., 1948, с. 410.
[2] Д. И. Писарев. Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. М., 1958, с. 378.
[3] В. Г. Белинский.. Цит. соч., с. 398.
[4] В. Г. Белинский. Цит. соч., с. 506.