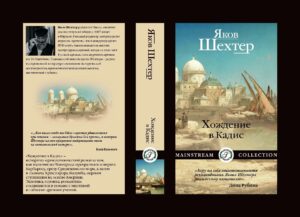Израильский литературный журнал
АРТИКЛЬ
№ 29

Тель-Авив
2024

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЗА
Наталья Новохатняя. Старик с улицы Рабби Цирельсона
Шуля Примак. Соседи
Дмитрий Быков. Председатель совета отряда
Павел Селуков. Нонкорфомист
Александр Борохов. Женя из Шервуда
Давид Шраер-Петров. Особняк над стадионом
Сергей Баев. Свидание
Михаил Нудлер. Я был душой дурного общества
Иосиф Альбертон. Дом исцеления
Яков Шехтер. Вернуться в Люблин
Михаил Юдсон. Остатки
ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ
Ури Села. Вторая сумка, полная небылиц
АРФА И ЛИРА
Произведения азербайджанских авторов
Микаил Мушвиг. Стихи
ПОЭЗИЯ
Ирина Маулер. Живое небо.
Тамара Нестеренко. Тёмное веселье
Игорь Белый. Пришёл однажды человек к Богу
Семён Крайтман. «так я писал письмо, я писал письмо.»
Пётр Межурицкий. Поэтов нет плохих
Игорь Губерман. В пути из ниоткуда в никуда
СРПИ НА СТРАНИЦАХ «АРТИКЛЯ»
Марк Котлярский. В поисках реализма четвёртого измерения
Нина Ягольницер. Правильный прикус совести
Лев Альтмарк. Страсти по Гоголю
Аркадий Крумер. Мой отец Исаак
Михаил Ландбург. Когда стемнело
Светлана Аксёнова-Штейнгруд. «Распадаются связи»
Александр Елин. «Око за око»
Марина Старчевская. «А жаль»
Яков Каплан. «В тёплом сумраке лица»
Ирина Сапир. «Шаг»
Владимир Аролович. «Всего-то был один росток»
Сергей Корабликов-Коварский. «У старости»
Наталья Кристина. «Пришла незваная»
Любовь Знаковская. «Ах, бабушка!»
НОН-ФИКШН
Александр Крюков. Кентавр
Мордехай Наор. Большое изгнание
Александр Карабчиевский. Тайные черты современного советского народа
Айдар Хусаинов. Афоризмы «Анти-бусидо»
Альбина Васильева. Воспоминания о Тюмени
Андрей Евдокимов. Катастрофу отменили
Андрей Зоилов. О пропаганде, заднице и Интернете
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Дневник событий: январь-март 2024
СТИХИ И СТРУНЫ
Ирина Морозовская. Пока Голос есть
БОНУС ТРЕК
На титульной странице: кинотеатр «Муграби» в Тель-Авиве. К сборнику историй «Вторая сумка, полная небылиц»