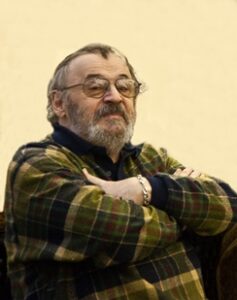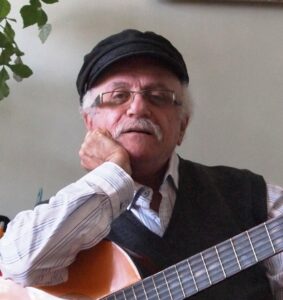Случайная встреча
Они встретились совершенно случайно в центральном парке своего городка. Встретились, пересеклись взглядами и обе растерялись. Что делать в такой ситуации…
Раиса Ефимовна хотела отвернуться и пройти мимо, мол, ничего не вижу, но не получилось как-то. А Софья Григорьевна неожиданно кивнула ей, и она тоже в ответ кивнула.
Дома каждая из них пыталась обдумать эту встречу. Они так давно не видели друг друга… И надо же было оказаться одновременно в этом парке. Живут они в разных концах города. А тут обе, каждая по своим делам, приехали в центр. Раиса Ефимовна ходила на почту, отделение рядом с домом закрылось, вот ей и пришлось добираться в другой район, а парк рядом. Софья Григорьевна отправилась в магазин, чтобы по совету приятельницы из хостеля купить нитки и связать к зиме новый жилет. Теплые вещи нужны, и за вязкой быстрее можно коротать вечера. Нитки подходящие она не выбрала, но на обратном пути решила прогуляться. Погода хорошая, ноябрь – месяц не жаркий… И вот так случилось.
Нужна ли была им эта встреча? Нет, конечно. Но дорога обеих в этот день вела через парк, и они оказались на одной тропе. Лучше бы не оказывались. Потому что теперь одна брала успокоительные таблетки, и вторая брала успокоительные таблетки.
Воспоминания налетели, как мошкара, как противные жужжащие комары: «А помнишь? А помнишь?..»
А помнить многое не хотелось во имя собственного спокойствия, которым каждая на старости лет особенно дорожила. Залечились многие душевные раны, а те, что не залечились, память любезно отправила в дальний угол, заклеив пластырем, чтобы не кровоточили…
Отношения не сложились с молодости, хоть и были они обе хороши собой и личным счастьем не обделены. За что Рая невзлюбила Софу, трудно теперь понять. Показалась она ей спесивой и расфуфыренной, наряды меняла. Шила Софа хорошо, но Рае никогда не предложила что-нибудь пошить. А почему Софа не полюбила Раю… за прием холодный, гордячкой всегда была Рая в глазах ее. А потом годами – ссоры какие-то, выяснение отношений из-за каждой мелочи, что уж скрывать, ненависти, может, и не было, но антипатия точно была… Накопился багаж обид.
И совсем не вовремя было им встретить сейчас друг друга…
Но почему-то ровно через неделю в это же время они оказались в том же центральном парке. Да, Раисе Ефимовне вновь понадобилось на почту, а Софья Григорьевна решила еще раз попытать счастья с приобретением вязальных ниток. Встретились на той же тропке, можно сказать. Раиса Ефимовна поздоровалась первой, Софья Григорьевна ответила. На минуту задержались рядом. Солнцезащитные очки скрывают взгляд, уже легче и проще выдержать этот экзамен. Через минуту каждая пошла своей дорогой. Дома вновь пришлось брать таблетки.
Сидела Софья Григорьевна с книгой, да книга не читалась. Включила Раиса Ефимовна телевизор, да развлекательные программы в голову не шли… Вспоминалось, ох, многое вспоминалось. В первую очередь, годы молодые, затем приезд в Израиль… И конечно, главное, вспоминали они обе Яшу. Какой он был замечательный, добрый, хороший, их Яша.
Смотрела Софья Григорьевна в окно, вопреки всем прогнозам шел дождь. Хорошо думается в дождь, и все мысли о Яше, о том, какой заботливый он был, как не забывал никогда ее поздравить с годовщиной их свадьбы, оберегал и волновался о ней, как сына любил. Никто не смог бы ей его заменить, так решила она раз и навсегда
Каждый шаг жизни связан с ним, – вспоминала Раиса Ефимовна у себя дома под песню «Сиреневый туман», которая лилась с телеэкрана. Все решения принимались после совета с ним. Незаменимых людей нет? А вот он был незаменим! И друг, и брат… Спокойней на душе было, когда знала она, что он рядом. Позвонить, поговорить с ним, и уже дела ладятся…
Причем каждая из них, находясь у себя дома и думая о Яше, вспоминала утреннюю встречу в парке, ведь она имела к нему непосредственное отношение. И тогда вновь приходилось брать успокоительные таблетки.
А ведь если подумать, судьбы у них похожие. Обе одиноки… Раиса Ефимовна овдовела раньше Софьи Григорьевны. Изя, ее муж, умер от инфаркта. Пыталась после встретить она близкого человека, наладить новые отношения, но никто не оказался ей мил. Впрочем, по всему видно, что и Софья Григорьевна оказалась однолюбкой. Уже одиннадцатый год, как Яши нет, а она одна… Дети у обеих – далеко, сын Раи – в Австралии, сын Софы – в Канаде. Уехали искать счастье в заокеанские страны. Все еще пытаются решить, счастливы они там или нет. А мамам достается редкое общение по Скайпу, который пришлось освоить.
Накопленные за годы обиды вдруг показались не тяжелой ширмой, служившей одно время их молодым семьям перегородкой в старой советской квартире, а всего лишь обтрепанной ситцевой занавеской, улетающей от сквозняка. Только трудно что-то изменить теперь…
Через неделю они опять встретились в парке. Когда Раиса Ефимовна оказалась там, Софья Григорьевна уже сидела на скамье, и пройти мимо было как-то неловко. Она остановилась, и сказала, между прочим, словно в последний раз они разговаривали позавчера, а не годы назад: «Купила клубнику, недорого, по десять шекелей килограмм».
– Хорошая цена, – подхватила беседу Софья Григорьевна, – а я тоже сегодня прикупилась, по скидке – творог, почти как домашний.
– Где ты купила? – поинтересовалась Раиса Ефимовна. – Я бы тоже хотела.
– Недалеко отсюда, за углом – киббуцный магазинчик.
– Спасибо, – ответила Раиса Ефимовна, – пойду туда.
И они разошлись, каждая пошла своей дорогой.
Через неделю они встретились вновь. И, конечно же, никто ни о чем не договаривался заранее.
– Присаживайся, – сказала Раиса Ефимовна – она в этот четверг пришла в парк раньше.
Софья Григорьевна осторожно села на краешек скамьи, словно была готова в любую минуту поменять позицию. Они сидели рядом и думали, что не общаются уже больше десяти лет, как Яшу похоронили, отсидели траурную неделю, больше и не виделись. А разве стоило не общаться, что за глупые причины были для конфликта. Да и был ли сам конфликт?
Не хотелось помнить ничего, ни скандалы, ни колючие взгляды, которые бросались годами друг на друга. Все это показалось в таком далеком далеке. Да и не было теперь уже давно причины для конфликтов, и главного объекта, из-за которого случались скандалы.
Ну да, не поделили… что не поделили они? Какая разница сегодня. Просто известно, что не всегда находится общий язык между женой и сестрой мужа. Так у них и случилось… Но теперь, когда его нет, что им делить? А если подумать, сколько общего в их судьбах.
И каждая из них вспоминала дни, когда по-своему они были счастливы.
– Приходи ко мне завтра, я вареники налепила, с творогом и клубникой. Я там же живу. Посидим вместе, – неожиданно для себя предложила Софья Григорьевна. Сама испугалась своего душевного порыва.
– Спасибо, – чинно ответила Раиса Ефимовна. И вдруг улыбнулась. – А я кекс испекла с черносливом и орехами, вкусно получилось, привезу с собой, попробуешь.