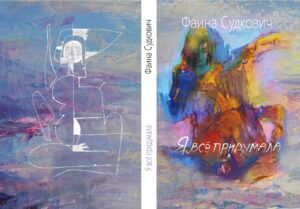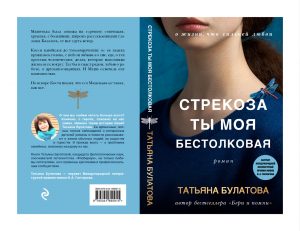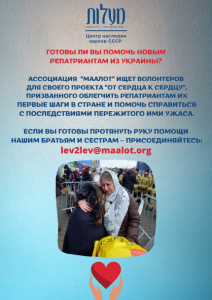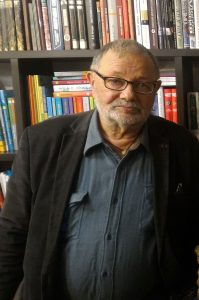
Счастливчик Таль
Анатолию Румеру в жизни повезло: он родился на свет счастливчиком.
О счастье задумывался всякий из нас, начиная, может, с Каина. Счастье не имеет кровли, размытые представления о нём без помех уходят в бездонное небо и растворяются там, как сахар в чае. Все мы без устали мечтаем о счастье, с переменной надеждой ожидая его появления сегодня вечером или в обозримом будущем. Счастье, пожалуй, занимает первое место в ряду желаний, к которым мы обращаемся изо дня в день, всю жизнь, до самого конца; ничто с ним не может сравниться по частоте наших сердечных призывов — ни любовь, ни даже ненависть. Ничто.
Зарницы счастья, время от времени полыхавшие перед Толиком Румером, он объяснял непостижимым небесным везением, и к Главному Устроителю испытывал за это незыблемую благодарность. Свою благодарность он держал при себе и предпочитал о ней не распространяться – это, и вправду, было дело личное. Так он и жил — не тужил.
Самым главным везением Толик считал переломный момент своей жизни — отъезд из Москвы в Израиль, на ПМЖ. Ему, действительно, повезло: за два года отказа, выпавшего на его долю, он мог без лишних слов сесть в тюрьму – а не сел. Других отказников – не всех подряд, но выборочно – посадили либо сослали, а его не тронули. И это было везеньем чистой воды: он тоже подписывал протестные письма и ходил на демонстрации на Центральный телеграф. Но – пронесло.
Тридцати лет отроду, задолго до прихода сорокалетней зрелости, он получил выездную визу, был снят с цепи и улетел в Тель-Авив. Жизнь вынырнула из туннеля, время закрутилось в другую сторону.
***
Синай накрыт колпаком совершенной тишины: ни птичьего щебета, ни людского гомона. Лишь рои мух, неизвестно откуда взявшись – может, из ниоткуда — яростно атакуют солдат, остановившихся посреди голой пустоши хоть на несколько минут. Возможно, и на наших предков, сорок лет избавлявшихся от отравы рабства здесь, в синайской пустыне, они набрасывались с той же яростью. Жуткая картина!
Война Судного дня ещё догорала. Запрокинутое к серо-голубому небу лицо Синая, помеченное чёрными оспинами сожжённых в капонирах танков, ничего не выражало – ни боли, ни памяти. Редкие островки финиковых пальм, срезанных по пояс, как бритвой, артиллерийскими снарядами, и уткнувшихся буйными кронами в землю, удивляли своей нелепостью – вольным деревьям была несвойственна такая дикая поза.
За ворота крошечной придорожной базы, на жёлто-коричневый бритый ландшафт, ефрейтор Румер глядел с большим почтением. Уходивший к горизонту хмурый простор прятал в себе скрытую силу и библейское могущество, поступавшее из недр времени. На этой затерянной в безводных синайских песках военной базочке ефрейтора Румера, с поправкой на наш местный колорит, звали не Толик, а Таль. Таль Румер. Ну, Таль так Таль. Так даже лучше.
На исходе второго года жизни в Израиле, в армии, он укрепился в будничной оценке своего везения. В первые жуткие дни войны, на южном фронте, его не зацепила ни пуля, ни осколок, и это было чистой воды везеньем: против военной смерти нет приёма, никто из солдат от неё не застрахован… После высадки Арика Шарона на том берегу канала, в Африке, дела пошли на лад: египтяне отступали в панике, наши вернулись в Синай, а Таль Румер со своим подразделением расположился у старой грунтовой дороги, ведущей на запад, к Суэцу. Главная дорога пролегала северней, километрах в двадцати, а по этой, старой, почти никакого движения не было, разве что армейский грузовик иногда пропылит или безучастный ко всему на свете бедуин проедет мимо базы на своём верблюде, да и то не по само́й дороге, а почему-то по обочине, по целине.
Глядя в усеянную камнями даль с размытыми горами на горизонте, Таль испытывал прилив совершенного счастья. Целый и невредимый стоял он здесь, посреди войны, у ворот, на пороге прокопчённой солнцем степи, и ничто не препятствовало чувству его принадлежности к повсеместно раскинутой Вечности, которая и есть Бог.
Прошлое время, поспевая за нынешним, клубилось за плечами Таля Румера. В этих дымных клубах проглядывали отчётливые картинки, виденные когда-то Толиком Румером в старой жизни и отпечатавшиеся в его памяти. Вот оно: сиротский берег умершего Аральского моря опустился, словно бы с небес, на синайскую божью землю – грустный берег с прилепившимся к нему мусорным городишком, дышащим на ладан. Сразу за его неопрятными домками начинался такыр – просоленная гладкая долина, растрескавшаяся от безводья. Взгляд скользил по ней, не встречая препятствий: гулять по такыру или ставить здесь кибитку не находилось желающих.
Пытливого Толю Румера привела сюда дорога из каракалпакского Нукуса. О мусорном городишке ходило немало слухов, а побывали там и увидели его своими глазами немногие. Говорили, что туда бежал и скрывался от нукеров Чингисхана сам хорезмийский шах Мухаммед, что он возвёл на берегу тогда ещё живого моря роскошные бани, которые сохранились нетронутыми и действуют по сегодняшний день; каждый человек может туда прийти и смыть грязь с тела и ржавчину с души. Иншалла!
Другие слухи решительно опровергали банно-целебные. Победоносный Чингисхан, дескать, гнал шаха до Арала, и там хорезмиец укрылся от преследователей на защищённом заразой острове прокажённых, где и закончил свои дни среди несчастных, гниющих заживо; вот как было дело. Исторический остров открыт нынче для всех желающих, но турист не идёт, и очередь из любителей острых ощущений там не стоит.
Никаких бань, ни шахских, ни коммунальных – никаких Толик в городишке не обнаружил, зато остров прокажённых теперь, с усыханием моря, оказался поблизости от берега, рукой подать. На островке, как и встарь, проживали в землянках и глинобитных халупах поражённые проказой люди. Но не только там: в само́м городишке и его окрестностях располагались три лепрозория союзного значения.
Городишко отличался от других человеческих поселений своеобразными особенностями. Прокажённые безнадзорно здесь бродили по улицам, не привлекая ничьего внимания. Некоторые из них толкали перед собою фанерные тачки – торговали лепёшками; хлебопечение было их утвердившимся занятием и ни у кого не вызывало возражений. Может, и островитяне из круга шаха Мухаммеда тоже пекли лепёшки.
Толик Румер, к собственному удовольствию, привольно себя чувствовал на берегу умершего моря, в этом запредельном мире, населённом страшной смертью. Он и сам понятия не имел, откуда взялась у него эта летучая лёгкость – оттого, может, что о лепре, насчитывающей тысячи лет, никто ничего толком не знает: то ли усатый сом её разносит, то ли дурной ветер. Но, главное, прежде чем проявиться, проказа зреет в человеке годы и годы, а Толик так далеко вперёд не заглядывал, жил сегодняшним днём — до вечера.
От соседа в привокзальном «Доме приезжего» Толик Румер узнал о ссыльных цыганах, раскинувших табор на берегу. Вот это да! Цыганский табор – только его и не хватало в беспризорном городишке для полного счастья.
***
Вечером на базу приехал на своём джипе лейтенант Ярон — офицер связи из штаба дивизии. Ярон привёз распоряжение: ефрейтор Таль Румер командируется на сорок восемь часов на западный берег канала для сопровождения гражданского лица.
— Собирайся, — сказал Ярон. – Я тебя с собой заберу, в дивизию, а завтра за тобой заедут, и дальше поедете на тот берег.
Кто заедет и зачем, Ярон не знал. Ясно было одно: Талю повезло, его отправляют в Африку. Толик Румер всю жизнь, ещё с детских лет, мечтал туда попасть. Африка, шутка сказать! Перешагнуть границу и оказаться в царстве львов и носорогов. А пирамиды, а Нефертити! Кого бы ни сопровождать, главное – добраться до того берега канала. А там – Африка, детская мечта!
Говорят, торговцы в незапамятные времена проложили по телу земли, ради коммерческого интереса, протоптанные дороги, и поехали по ним купцы, пошли караваны. И уже вслед за ними, спустя недолгое время, потянулись солдаты – воевать.
Главная синайская дорога, разбитая вдрызг танковыми траками и военными тягачами, вела на запад, к Суэцкому каналу. Торговые фуры здесь не появлялись, бедуинские караваны не показывались.
Гражданский пикап «Колорадо» с крытым кузовом подпрыгивал и проваливался на колдобинах дороги. Кузов пикапа по самую крышу был набит подарками для солдат: шашками и нардами, комиксами, коробками конфет, жестянками кока-колы, шерстяными носками, плитками шоколада, душистым мылом, мороженым-эскимо в дорожных холодильниках – всем тем, что, по разумению Арье Зисмана, американского богача и мецената, могло порадовать фронтового израильского бойца. К этому богачу Арье Зисману, торговцу брильянтами, и был прикомандирован Таль для поездки по африканскому берегу Суэцкого канала. В кабине пикапа, сзади, уберечься от безудержной тряски не было возможности, а водителю приходилось легче, он цепко держался за руль. Богач Арье смиренно терпел неудобства дороги, списывая их на счёт естественных проявлений военной жизни, а Таль, сидевший на заднем сиденье рядом с меценатом, искал за окном признаки приближения к Африке и на досадные подскоки старался внимания не обращать. Ехали то побыстрей, то едва волоклись в колонне попутных машин, и оба пассажира в кабинке «Колорадо» нетерпеливо думали о цели своего путешествия, а не о войне за окном. А война ещё не закончилась, так что могла и убить на этой разбитой дороге.
Цель заключалась не только в раздаче подарков солдатам на фронте; подарки служили лишь поводом для благородной, но небезопасной поездки в Африку. Война шла на убыль, это было ясно всем, и балаган, сопутствующий окончанию войн, царил над Синаем и восточной оконечностью Африки, вплоть до 101-го километра от Каира.
Подарки – подарками, но не только желание порадовать усталых солдат мороженым и шашками влекло неугомонного Арье Зисмана в Африку. Он поставил своей главной задачей догнать на западном берегу канала мобильный штаб Арика Шарона и сфотографироваться с ним на память. То было вполне здравое желание: немало богатых американских евреев мечтали запечатлеться на карточке рядом с прославленным героем войны.
Приятные дары согревают душу и порой способствуют сближению сторон, поэтому умудрённый в житейских хитросплетениях богач Арье вёз подарок и Арику Шарону – ящик эксклюзивного американского бурбона «Джим Бим» двойной выдержки. От такого подарка и африканский слон пошатнётся…
Прислушиваясь к перезвону бутылок в картонном ящике, на полу кабины, Таль следил за бегущим вдоль дороги монотонным пейзажем и лениво прикидывал, чья это рука открыла путь на фронт Арье Зисману с его подарками. Рука была крепкая, в этом Таль не сомневался ничуть: гражданскому торговцу брильянтами или хоть манхэттенскими небоскрёбами получить разрешение на поездку за канал, в Египет, на поиски Арика Шарона, было непросто. Почти невозможно это было, вот как… «Надо думать, — гадал и прикидывал Таль Румер, — что богач Зисман немало брильянтовых пожертвований сделал для нашей еврейской родины, вот и отношение к беспокойному меценату сложилось самое благожелательное: рука руку моет, нога ногу трёт. Хочет раздавать подарки – пусть едет и раздаёт!» А свою роль в этой операции Таль Румер и не думал переоценивать, хотя приказ о сопровождении, накануне переданный ему офицером связи Яроном, застал его врасплох и очень удивил. В штабе дивизии в тот же вечер всё встало на свои места: шансов на встречу богача с Ариком Шароном было как кот наплакал, обнаружить и нагнать полевой штаб генерала американцу вряд ли удастся. А если это всё же произойдёт чудесным образом, Таль окажется тут очень кстати: генерал Шарон, выходец из семьи русских евреев, проявлял тёплый интерес к репатриантам из России, с Толиком Румером познакомился незадолго до начала войны, на неформальной встрече с отказниками в Иерусалиме, и даже подвёз его в Тель-Авив, до самого дома, на своей машине. Так что Таль самим своим неожиданным появлением поспособствует, может быть, подходу брильянтового еврея с его бурбоном и фотоаппаратом, к нашему Арику Шарону. Может, поспособствует, а, может, и не поспособствует…
К Суэцкому каналу, к шаткой понтонной переправе, подъехали около полудня. Таль Румер затаил дыхание: вот он, рубеж, рассекающий пространство, граница, за которой начинается самая, что ни на есть, Африка! Пикап на малом ходу въехал на первый понтон моста. Вода вокруг, освещённая чистым солнцем, растратившим к концу октября свою золотую кипящую силу, была безрадостна и мутна. Глядя на приближающийся египетский берег, Таль ожидал наплыва счастья, но испытывал лишь лёгкую досаду: счастье от вымечтанной встречи с Африкой почему-то не приходило, хотя сомневаться в том, что Африка – вот она, перед ним, не было оснований.
Пограничная вода равнодушно катилась по сторонам понтонов. На переправе, прислонившись к канату перил, стоял щуплый солдатик в чёрной кипе и ел мацу, откусывая от листа. Этот едок мацы здесь, на переправе, на пороге Африки, почему-то обрадовал Таля Румера: вот, стоит себе и ест, и ему всё равно – война, Азия или Африка.
Тем временем пикап съехал на египетский берег и прибавил скорость. За окном мелькали одноэтажные безлюдные посёлки, словно старательно выметенные гигантской метлой. Жителей не было видно, только собаки перебегали иногда дорогу перед машиной, да ослы задумчиво стояли, где придётся. Солдаты, группками по пять-шесть человек, редко встречались – фронт ушёл вперёд, к Каиру, и канал стал теперь тылом. Поравнявшись с военными, пикап притормозил.
— Эй, ребята, — высунувшись в окно, спросил водитель, — в штаб как проехать?
— Какой штаб? – переспросил один из солдат.
— Как какой?! Арика Шарона! – объяснил водитель.
Солдаты засмеялись необидным смехом, один из них показал рукою на север, а другой на юг.
Поехали дальше, гадая, куда дорога их выведет. С набережной свернули на запад, в степь, и первому встречному офицеру, ехавшему куда-то на джипе, поставили тот же вопрос: «Штаб – где? Как проехать?» Офицер задумался, не зная, что сказать.
— Кто его знает, — отозвался, наконец, офицер. – Он на месте не стоит… А вам зачем?
— Надо, — успокоили из гражданского пикапа. – У нас разрешение есть.