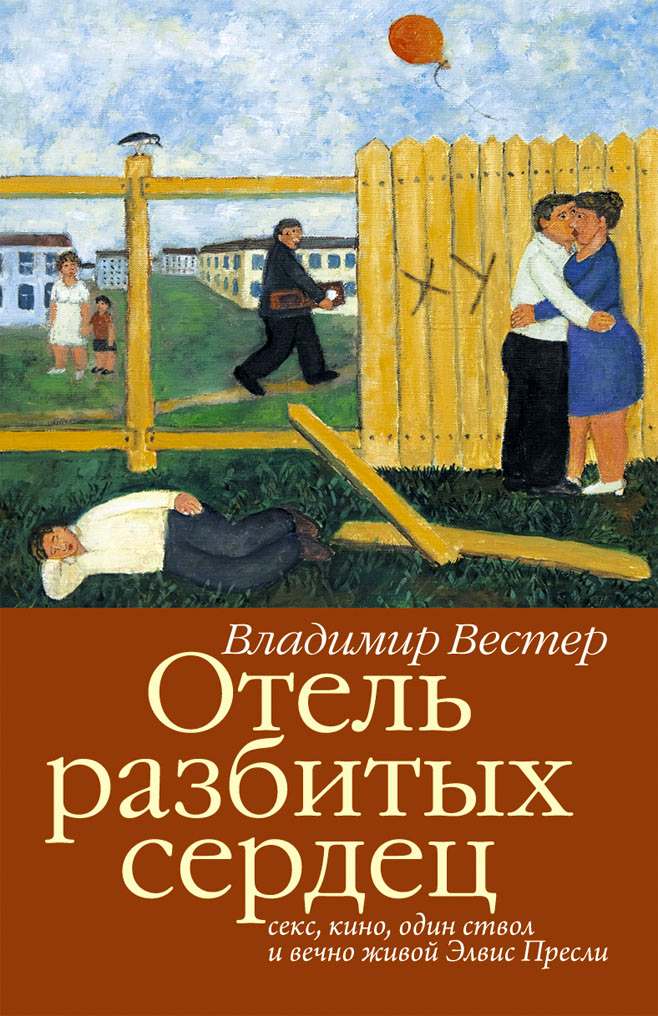
Владимир Вестер
ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ
В начале «своих сумбурных записок» Николай Владимирович Армяков признается, что впервые подумал о них в ту далекую осень, лет за двадцать пять до авиакатастрофы в безоблачном небе над Средиземным морем. Никто из друзей, слава богу, в нее не попал, попав, понятное дело, «совсем в иную катастрофу», и закончить записки он собирался в году примерно 2016-м. Несколько раз хотел их резко прекратить, но так и не решился на то, чтобы его «осенние воспоминания» остались навсегда на «влажных тротуарах нашей юности, среди людей и машин». В центре великого города, который был дан нам в одних ощущениях, но отнят в других. Памятник, фонари, кинотеатр напротив, цветочный магазин «Букет Абхазии», кондитерская в доме с неповторимым названием «Отель разбитых сердец».
ЧАСТЬ I
ГЛАВА ПЕРВАЯ
За двадцать пять лет до авиакатастрофы в безоблачном небе над Средиземным морем осеннее полнолуние было в городе нашего детства и юности – громадной столичной Москве. Я в небольшой моей комнате сидел за столом, зажав в правой руке черную телефонную трубку. Откуда отголоски музыки? Кто поет?
Под утро убедился: опять мне две алюминиевые вилки мыть и оба стакана граненых! А также в том, что надо бы пару раз растянуть резиновый эспандер на заре. Шкаф мой со скрипевшими створками, стоявший у правой стены, относился к деревянной мебели советского производства. А стеклянная бутылка портвейна с парящим журавлем на этикетке к деревянной мебели советского производства не относилась. Бесшумно потеплевшая во тьме гардероба, она являлась заначкой «партийного», аккуратно засунутой под белье мое нательные. В ожидании праздника.
Случилось это в октябре того же далекого года, когда вот-вот должны были вспыхнуть разноцветные лампочки на фронтоне Центрального Телеграфа. Не в ту ли длинную ночь впервые в жизни я дал себе слово, что когда-нибудь расскажу своему другу и товарищу Александру Петровичу Тыквину нечто похожее на то, что рассказал он мне по телефону?
А тот, кто из вас в юности мечтал попасть в подвальное помещение бывшего бомбоубежища на просмотр кинокартины производства США «Авиационная неделя насекомых», - тот пусть мне сам скажет. И на «Последнее танго в Париже», и на «Голубые Гаваи», и на «Джи-ай блюз», и на «Скромное очарование буржуазии», и на «Пусть никогда не кончаются эти веселые времена рок-н-ролла!», и на прочее «закрытое» черт знает почему великое кино.
Ну да бог с ним. Разглядывание движущихся на экране людей и вещей – любимое развлечение человечества, хотя нормальный и будничный его представитель не проведет всю жизнь в обнимку с изобретением великих французов. Есть выдающиеся фанатики в этой области. Но это – художники. Это такие видные деятели киноискусства, которые до сих пор поражают умы и сердца миллионов зрителей, регулярно показывая им одно художественное произведение за другим.
А что же будничный представитель? Тот самый, которых тысячи и тысячи в многоликой столичной толпе?
Далекий от философского осмысления действительности, он некоторую часть своего личного времени способен провести у витрины с двумя манекенами за толстым витринным стеклом. Стоит человек перед такой витриной, и манекены за стеклом, а сверху дождик мелкий. А мимо люди проходят: женщины, мужчины, дети. И если ни мужчин, ни детей он почти не замечает, то женщины привлекают его. Но отчего-то более всего вон та рослая брюнетка в черных кожаных перчатках. При свете фонарей он видит ее отражение в витринном стекле. «Вот это красавица! Откуда взялась?». Он оглядывается, а она уже совсем прошла, даже перчаток не видно в толпе… И уж совсем невероятно… Мда… Вы знаете, что более всего невероятно в Москве? Не знаете. Тогда я вам скажу. Это – не холод грядущей зимы и не пропавшая куда-то брюнетка, а чтобы ночью позвонить подручному геодезиста (мне) и спросить:
- Ты, Армяков, свою заначку еще не откупорил?
А чего стоила пересадка на Комсомольской площади! И не одна, а две. Одна утром, другая вечером. Плотная и влажная толпа, тяжелая от поклажи и мыслей. А как у нас мужики умели навонять в каптерке! Как вдохновенно и виртуозно могли они навонять!.. А пели как! Протяжно и про фонарики. И в воображение моем качались эти фонарики.
Начальника моего звали Сергей Львович, фамилия Стёгин. Начальник мой, Сергей Львович Стёгин, тоже качался, но не от ветра и не в моем воображении, а из-за давней контузии, настигшей его на берегу реки Халхин-Гол, где, по его словам, он в качестве полковника служил в красных бронетанковых войсках. Выйдя в отставку, он вскоре стал бывшим полковником, упорнейшим фанатиком геодезической разметки, а также вдохновенным автором невероятной истории, в которую мне еще предстоит поверить, хотя не до конца. В фуражке без звезды он выходил на крыльцо служебного помещения и что-то кому-то пробовал объяснить. Тьма вокруг, насколько глаз хватало, и только огоньки мерцающие, и гудки за лесом. Он возвращался в каптерку, садился на промасленные телогрейки и говорил о месте человека в жизни, о дождливой Родине, о том, что сердце болит, а Родине служить все равно хочется. Он курил крепкие папиросы, выкуривая не менее двух штук подряд, и двумя пальцами очищал от фольги плавленый сырок «Дружбу». А с каким вдохновением, с какой невероятной силой умел Сергей Львович по столу кулаком стукнуть! «Супруга Галина Аркадьевна! – и кулаком по столу – Ты для чего же это покинула меня в самом начале хрущевской реформы!» - и еще раз кулаком по столу. Казалось, от полноты чувств он выхватит наган из невидимой кобуры и станет стрелять из именного стрелкового оружия по грачам и бутылкам. И полетят погибшие грачи в одну сторону, а раздробленные бутылки в другую.
Короче говоря, мы в те далекие годы, а затем и не в такие далекие так и не размахнулись, чтобы достроить огромное и, в перспективе, красивое, с множеством шпилей, колонн и горельефов высотное здание – «Отель Разбитых Сердец». Так, наверное, можно про него сказать, если еще раз припомнить одно из задушевных высказываний моего неуемного друга или еще кого-то. Все они были правы в той же степени, в какой правы теперь изрядно поредевшие толпы их честных последователей. По крайней мере, на словах.
А на деле?
А на деле до недавнего времени на том же месте даже близко не просматривалось никакого «Отеля разбитых сердец». Практически с тем же успехом не просматривается он и теперь. Ни тебе шпилей, ни тебе горельефов, ни тебе 999-ти этажей, ни сантехнического оборудования. На том же месте пустырь простирался с кое-где пожелтевшей травой и останками одноэтажного домика, должно быть, хозяйственного назначения. Полузасыпанная траншея уходила вдаль, к лесу и терялась среди высоких хвойных и лиственных деревьев. Заметил я и бывшее окошко нашей строительной кассы, и ржавую печку-буржуйку, на обломке трубы которой навеки застыли процентов на 80 истлевшие чьи-то хлопчатобумажные носки. Темный осенний грач сидел на чудом уцелевшем заборе. Он позабыл улететь туда, где юг, скалы и море.
Гудела за лесом невидимая железнодорожная станция, и - то ли казалось мне, то ли на самом деле - слышно было, с какой хриплой тоской кричат сцепщики на «страшных путях сообщений». Сколько лет тому!
На объекте
Первое официальное описание объекта я где-то потерял, и в грубом здании архива на окраине Москвы мне выдали копию, заверенную за обитой жестью дверью маленьким печальным человеком в черном помятом костюме. Человек в костюме много курил, но еще больше кашлял.
Насчет утраченного оригинала. Сидя у себя в комнате и размышляя о своем тернистом жизненном пути, не могу отделаться от ощущения, что подобного оригинала никогда не существовало, а если и существовал, то бог весть где, бог знает в каких захолустных спецхранах. Очевидней то, что Шумелыч или, скажем, Михалыч, равно как Мигалыч или, скажем, Бубнилыч, а то и просто Малафейкин органично входили в состав нашей бригады, и вся наша бригада с чудовищной силой накуривала в нашей каптерке, и дверь заклинивало из-за спертости воздушной среды, и в невыносимой атмосфере пропадал куда-то длинный стальной гвоздодер, принадлежавший двоим нашим плотникам, Смирнову и Кузякину.
Наша (единственная?) кадровичка являлась именно кадровичкой на всей беспримерной площади объекта. Звали ее Наталья Николаевна Голубятникова. Женщиной она была довольно-таки плотной, приземистой, белокурой, с высшим юридическим образованием и выщипанными бровями. С начала осени до конца весны она ходила в накинутой на плечи зимней шубе из ненастоящей рыжей лисы, а ноги обувала в сапоги типа «чулок», модные в те годы. Я до сих пор не понимаю, как она ухитрялась так ловко передвигаться по нашей стройплощадке, по которой и взрослому работоспособному мужику не то что в модных сапогах, а и в рабочей грубой обуви передвигаться было сложно и опасно. Всякий мужик имел все шансы запросто в траншею навернуться, вырыв ее предварительно.
Согласно гулявшим по площадке слухам, наша приземистая кадровичка проживала в рабочем поселке, куда три раза в день с самого большого вокзала Москвы отправлялась гремящая пригородная электричка. Перед одноэтажным зданием сельмага, отмеченным датой запуска в строй «20. 07. 1914», находилась небольшая площадь, облагороженная низкорослым памятником В. И. Ленину в каменном пиджаке и беспечной зеленой травкой, пробивавшейся по весне между булыжниками. Были у Голубятниковой из вещей два стула, несколько обеденных тарелок и электрический утюг, а от двух мужей остались несколько быстроногих вихрастых мальчиков на полном иждивении.
В ту осень, о которой речь, эта многодетная кадровичка очень нравилась мне, да и не только мне. Во-первых, от нее зависела подача в Головное управление официального списка на денежное премирование мужиков из нашей бригады. Во-вторых, она еще в начале позапрошлого сентября должна была подписать сразу весь список, но так и не подписала, ссылаясь на неясность персонального состава. Она, по ее признанию, терялась в догадках, кого из мужиков из нашей бригады на денежную премию подавать, а кого не подавать. Словом, по разным параметрам нравилась она мне настолько, что я несколько раз собирался предложить ей на все плюнуть и отдаться мне в каптёрке на промасленных телогрейках. И всякий раз терпел крах. Из-за того, что, в первую очередь, боялся первой в жизни любовной неудачи, а во вторую очередь, потому что уверен был, что в самый ответственный момент внесется со двора в каптерку мой непосредственный начальник-геодезист и, не сорвав фуражки с головы, с порога закричит: «Где это вас, Армяков, опять с астролябией носит? Куда вы с прибором пропали?». От крика геодезиста мне станет не по себе, и мой настрой на беспримерное любовное приключение на производстве сменится страхом и неуверенностью.
Усиливало мою неуверенность еще и то, что наша кадровичка, кроме шубы из рыжей фальшивой лисы, носила безобразную зеленую шляпу с широкими полями. Она в такой шляпе вставала из-за стола и, не стесняясь полковника, ходила по досчатому полу не до конца еще спроектированного отдела кадров, весело отзываясь не по поводу многоэтажного «Отеля разбитых сердец», а по поводу намечавшегося моего с ней романа. Еще непринужденней она отзывалась в отношении списка на премиальные, что ни в коем случае не вызывало у Сергея Львовича даже тени улыбки. - «Вы уж, Наталья Николаевна, подписали бы хоть разок… Нельзя же в самом деле. Что это за херня-то за такая?». - «Так я же ведь женщина с юмором, - не улыбаясь совсем, отвечала она. – Вы, Сергей Львович, сами посудите: мужики у вас в бригаде есть, а премии нет. Это куда годится? А ежели посерьезней, то вот что я вам скажу: вы как с людским составом определитесь, так сразу дайте мне знать. А то вы сами никак определиться не можете, а всё на меня валите. А я тут при чем? Я-то при чем тут? Я, между прочим, мать многодетная, чтоб вы знали. Откуда я знаю, кого из ваших людей на премию подавать, а кого не подавать?». А когда я с объекта увольнялся, она в той же юмористической манере меня напугала, что могли бы мне в кадрах выдать не положительный документ, а отрицательный. -«Большое спасибо вам, - сказала она, - за то, что вы, товарищ Армяков, все годы дурака валяли, а так и не удосужились освоить тонкостей разметочного дела. Из-за таких, как вы, империи распадаются». Я тотчас от таких слов об стул споткнулся и металлический чайник на пол уронил, а как-нибудь посущественней не возразил. Я не понял, во-первых, ни шута. О какой империи идет речь? Для чего она должна распасться? Во-вторых, я был уверен, что положительный письменный отзыв мне крайне необходим для подачи всех нужных документов с целью моего поступления в картографический техникум. Сразу на третий курс.
Моя характеристика «типовой» оказалась, и я бы мог привести обширный отрывок из неё, однако не стану этого делать. По той причине, что вся она от первой буквы до последней точки всем хорошо известна, а в особой степени тем, кто в молодости получал какую-либо письменную и, в сущности, объективную характеристику.
Разные вещи
Диван в моей комнате был пружинный, бугристый, одетый в желтую обивку, потертую на углах, и весь настолько звучный, что и в дальнем конце общей квартиры было слышно его. От звуков моего дивана соседка с «вечным» полотенцем на голове, имевшая привычку петь голосом Эдиты Пьехи (почему-то по-итальянски), внезапно просыпалась. Она зажигала небольшую продолговатую стеклянную лампочку и лежавшему рядом с ней дяде Пете Сандальеву говорила: - «Какая у нашего Николая очередная сумасшедшая любовь!» - «Да спи ты, е… тебя в кочегарку», - отвечал ей дядя Петя Сандальев. – «Да самого тебя в кочегарку, - произносила она и, выключив лампочку над головой, добавляла: – Ишь ты какой! Неведома тебе, мудаку старому, сумасшедшая любовь!».
Она, наверное, была права и насчет «мудака старого», и насчет «сумасшедшей любви». Хотя дядя Петя Сандальев, зимой и летом ходивший по коммунальному коридору в фиолетовой майке без рукавов, не так уж был стар. Прав был и я в своем пока еще неустойчивом предположении, что не всякий мудак является обязательно мужчиной пожилого возраста: есть более молодые и упертые. А есть и мечтатели. Почти такие же безудержные, какие обнаруживаются то там, то тут. И кое-какие из них навсегда пропадают в безвестности, бесследно исчезают в окружающей атмосфере, а некоторые, чтобы как-то приблизиться к своей мечте, посещают ближайший к нашему дому кинотеатр. О кинотеатре скажу: попадать туда было одно удовольствие. Это вам не душный сырой подвал, под тяжкими сводами которого царствовали громадные серо-коричневые крысы и подпольно демонстрировали «Последнее танго в Париже». Это – официальный московский государственный кинотеатр, и внутри его царствовали профессиональные билетерши, а не громадные серо-коричневые крысы, и даже подпольно не демонстрировали не «Последнее танго», а «Авиационную неделю насекомых» – в связи с запретом выхода на отечественные экраны. Кинотеатр назывался «Центральный», и давным-давно его снесли вместе с буфетом на втором этаже. А ведь было время, когда в «Центральном» кинопроекционная установка стрекотала, и зрители кашляли в полутьме, и темный сладковатый «Портер» продавали в буфете, и «Амурские волны» плавно накатывали с открытой эстрады на слушателей в фойе. А потом огромную люстру в зале медленно гасили с помощью соляного мощного реостата, и на экране действовали загадочные, удивительные, странные, полногрудые, остроумные и прекрасные женщины, каких не так-то просто было встретить на осенних улицах социалистической Москвы.
Помимо этого, мой, названный выше, шкаф с двумя створками из советского дерева и скромной фурнитурой. А где еще хранить стеклянную заначку «партийного», этот заветный стеклянный пузырь из ближайшего к нашему дому гастронома «У летчиков», и всё самое нательное, что нужно человеку в жизни?
Белый фарфоровый заварной чайник с утренней грузинской заваркой внутри. Чайник стоял на газете «Правда» за вчерашнее число. Под ним на газетной бумаге образовалось бурое пятно с неровными краями. Надо сказать, что и у фарфорового чайника – своя история, которая напрочь могла бы выветриться из моей шаткой памяти и отчего-то выветрилась.
А с какой грустью мой старый школьный пиджак висел на спинке стула! Приятно школьный пиджачишко вспоминать, приятно думать о том, что я носил его когда-то, что я его когда-то снимал, надевал, вдыхал его запах, застегивал то на одну, то на три пуговицы, расстегивал на столько же пуговиц и с такой аккуратностью вешал на спинку стула, словно боялся помять не серое его сукно, но мое нынешнее воспоминание о нем.
Неподалеку от пиджака стоял на полу мой ламповый радиоприемник в деревянном трофейном корпусе. О радиоприемнике и об особенностях звучавших по нему радиостанций разговор особый. Обещаю: он состоится ниже. Это так же верно, как и то, что ниже состоятся все прочие разговоры. А в настоящую минуту следует признать: вся комната имела площадь не более двенадцати квадратных метров, включая фикус, заварной чайник, мою вчерашнюю «Правду», шкаф и диван. Комната находилась через двор от друга моего (и приятеля) Александра Петровича Тыквина. Она, с одной стороны, защищала меня от событий внешнего мира, а с другой, в силу неведомых причин, казалась мне беспрецедентно чужой, будто снимал я её в противоположном конце города.
В любую погоду следовало метров триста пройти по асфальту нашего двора до дверей того подъезда, где на шестом этаже проживал Александр Петрович. Над входом в подъезд все дни и ночи напролет горела электрическая лампочка свечей на 25-40.
Вольная тема
Ни номера аудитории, ни цокольного этажа с распахнутыми окнами решительно не могу вспомнить. Полностью забыты и звонки в коридоре, и шум голосов трех сотен с лишним моих сверстников, и столовая с липкими подносами, неистребимым запахом серого хозяйственного мыла и огромным, как паровозный котел, чаном «кофе с молоком»; и широкие лестничные пролеты, казалось, вели в бескрайнюю неизвестность. А вот и гипсовый бюст в вестибюле. Он отчего-то мною тоже забыт, однако не совсем. Это был выдающийся гипсовый бюст человека с мощным высоким лбом, загнутым книзу крупным носом и густыми всклокоченными бакенбардами, как у помещика Ноздрева. И стильно украшал его бурый засохший венок с выгоревшей похоронной лентой. Возможно, что гипсовое изображение являлось изображением доблестного путешественника Пржевальского. А возможно, что выразительнейший гипсовый портрет являлся портретом не совсем путешественника Пржевальского, а все ж таки помещика Ноздрева, Фридриха Энгельса или еще кого-то, кто ж их всех разберет.
Из вступительных экзаменов запомнились два. Первый – по физике. Весьма наглядный, словно скрип диванных пружин в моей комнате. Второй – письменное сочинение на вольную тему. Вроде той, которую я сам придумал: «Твой друг астролябия». Это такой старинный оптический прибор для правильной ориентации по небесным светилам. В качестве геодезического инструмента он применялся в то далекое и незабываемое время для разметки огромной площадки под будущее строительство. Он был весьма популярен в те годы.
Конечно, на экзамен я не прибор принес с собой. Он имел свой инвентарный номер и находился на особом контроле у моего непосредственного начальника, о котором я еще расскажу много интересного, кроме того, что было рассказано выше. Я пришел на экзамен с бумажной шпаргалкой в хлопчатобумажном носке на левой ноге. Выбрав подходящий момент, я из носка шпаргалку вытащил и с нее ухитрился списать:
«Астролябия – древнегреческий термин, составленный из двух слов: «астрон», что означает «звезда», и «лабе». Это «лабе» означает «схватывание». Таким образом, имеем дело с техническим устройством, способным схватывать звезду. В то же время этот угломерный прибор служил до начала 18 века для определения положения небесных светил. Есть астролябии и разные другие по конструкции. Такие астролябии применяются в геодезии для измерения горизонтальных углов на местности. Однако нельзя не признать, что астролябия призменная Данжона является современным точным прибором, который также служит для определения положения небесных светил. Иначе говоря, не бывает такого положения светил на небе, которое, если очень постараться, нельзя было бы определить как с помощью призменной астролябии Данжона, так и при содействии фанатика разметки Сергея Львовича Стёгина, бывшего полковника бронетанковых войск и героя битвы на монгольской реке Халхин-Гол».
Пять баллов за сочинение!
Но, с блеском поступив, я к учебе страсти необузданной, пропахшей пылью пожелтевших страниц и озвученной гулом лестничных пролетов, так и не смог испытать. Единственное, что для меня оказалось особенно важно – это то, что будет потом, когда закончу в заведении. Какая перспектива готовится мне как молодому специалисту?
Случай в парке
Из прохладного хаоса воспоминаний о тех годах неожиданно появляется не Александр Петрович Тыквин, товарищ мой по старому дому, феноменально приспособленный, чтобы всякого разного наговорить мне по телефону, а мой давний знакомый, который прежде не думал ниоткуда возникать.
Не водилось за ним и того обыкновения, чтобы со всей неожиданностью для себя обрушиваться с десятикилометровой высоты. Ни в какую авиационную катастрофу он вообще не попадал. Ни в безоблачном небе над Средиземным морем, ни в небе над каким-либо иным водоемом регионального, районного, местного или мирового значения. Он, правда, уже в нынешнее время месяцев восемь в Лефортове отсидел, где чуть было не оказался посаженным на острую стеклянную «розочку», отколотую от бутылки «Советского шампанского». Но из каменного Лефортова он вышел и всей грудью воздух свободы вдохнул. Он до сего дня работает в многоэтажном здании Межправительственного учреждения. Вы знаете это здание. Оно возвышается на правой стороне набережной Обводного канала и отражается в маслянистой воде. С тем же правом способно оно возвышаться на левой стороне той же набережной и опять-таки отражаться в маслянистой воде.
Однако самое любопытное здесь не это двойное отражение, а то, что в памяти моей почти не сохранилась выразительная внешность моего знакомого. Прочие выразительные внешности сохранились, а эта, пару раз перевернувшись, улетела куда-то. Пропала в Москве. Я помню лишь небольшого человека с полуавтоматическим японским зонтом и острым пузиком. В теплом июньском парке он выпил граммов 200 водки за мой счет и, закусив водку шашлыком с луком, принялся в качестве моей сверкающей жизненной перспективы описывать кабинеты, мебель, воспроизводить звонки в дверь, отрывки телефонных разговоров. Помимо иных подробностей, вроде рыжей и поджарой секретарши с бритыми ногами, он прямо указал, что начальник всей мебели, секретарши и разговоров не должен быть непременно сволочью, но должен сильно выпивать и в выпившем состоянии волочить пальто по полу.
В поздних июньских сумерках, явно довольный выпитой водкой и описанной перспективой, он вышел из-за стола и несколько изменился в лучах заходившего солнца. Изменившись почти до полной неузнаваемости, он сообщил мне, что должен теперь по нужде по малой сходить. И скрылся в ближайших кустах.
По нужде он, вероятно, сходил, а из кустов назад не вернулся. Я остался один. Денег еле хватило, чтобы расплатиться. Я шарил по карманам. Официантка стояла рядом. Сложив толстые мужские руки на груди, она с отвращением наблюдала, как я шарю. Хорошо хоть свои единственные наручные часы «Слава» на черном ремешке из кожзаменителя закладывать не пришлось.
Не заложив часы, я в ковбойской рубашке и пригородных сандалетах шел по парковой аллее, вдыхая свежий воздух городского парка. И доносилась музыка со стороны реки, и слышен был смех за деревьями. Я шел и размышлял о том, что имел ввиду этот остроумный, но куда-то исчезнувший человек. При чем тут рыжая поджарая секретарша с бритыми ногами? При чем тут пальто? Для чего какому-то начальнику волочить его по полу? На кой черт сдалась мне столь блестящая перспектива? Не догадавшись об этом, я успокоил себя мыслью, что в жизни всякое бывает. И стал вспоминать, с каким медлительным изяществом белые нерукотворные лебеди плавали по водной поверхности старинного пруда, на изумрудных берегах которого, быть может, отдыхали, ни о чем не подозревавшие, тени наших далеких предков.
Темная сторона заблуждений
С той поры окружающий мир значительно изменился. Радикальные преобразования коснулись многого, в том числе самых потаенных уголков этого мира. Сердец на мирном пути разбилось громадное множество, и выплыло на поверхность, что дело давно уже не только в качестве выпивки и закуски. Впрочем, в своих сумбурных записках я не берусь ничего утверждать. Тем не менее утверждаю, что качество выпивки и закуски с каждым днем все выше и выше. Это я из своего личного опыта знаю.
Дело еще и в другом. А именно в том, что всё теперь следует подвергнуть коренному переосмыслению. Мечты, любовь, людей, вещи, кинематограф, Москву, водку, шашлык, товарищей, музыку за деревьями, Обводной канал, всё прочее и остальное. Скажу еще, что данное переосмысление очень далеко зашло. Настолько, что даже самые неподкупные, самые умные, самые знающие и прославленные люди не всегда могут что-либо объяснить. В то же время другие люди (еще более умные и прославленные) кого угодно могут поправить, поставить на место, раскритиковать, урезонить или запросто сказать всё, что они думают о заблуждениях того или иного человека.
Не скрою, что всё это касается и меня, склонного и у витрины на дождливой улице постоять, и обидные ошибки допускать, уходя в неприглядную сторону собственных заблуждений. И основная причина не в том, что я когда-то жил в маленькой комнате в центре Москвы. Даже не в фикусе на подоконнике, не в призывном скрипе диванных пружин и своеобразной реакции на скрип соседей моих и, в частности, дяди Пети Сандальева. Причина, безусловно, в личных моих качествах. Я их ценю, но не имею права не признавать зияющих изъянов в них, всех этих червоточинок, щербинок, темных пятен, всей этой удручающей кривизны. Я не могу не признать, что бываю мелочен, неуживчив, криклив, излишне подозрителен. Я чаще всего настроен на то, чтобы двигаться не в прогрессивную сторону процесса созидания, а в сторону моего деревянного шкафа. Весьма вероятно и то, что я предпочитаю игнорировать чужие возражения. Возможно, что так. Плевать мне на них. Ровным счетом начхать, кто бы и что бы ни говорил мне, среднего роста шатену, бывшему подручному геодезиста, Николаю Владимировичу Армякову.
А по окружающему миру могу заметить, что окружающий мир сегодня, если на круг взять, значительно изменился. Стал как-то позабавней, пообеспеченней, пошире, помобильней. Навалом повсюду модных раздолбаев, отпетых мошенников, шикарных экипажей, обширных реклам и мигающих огоньков. Закон «Ты прав, Аркадий, твоя жопа шире!» принят в последнем и, видимо, окончательном чтении. И, повторяю, страшно расширился товарный ассортимент, и на головокружительную высоту 999-ти этажей мифического Отеля взлетело не чье-то разбитое сердце, а качество выпивки и закуски.
Уточнение обстановки
Теперь необходимо напомнить, что всё, о чем уже шла или только еще зайдет речь в моих неловких и – прямо скажу – разрозненных воспоминаниях, – всё это происходило в Москве. В городе, освоенном почти до основания, во многом правильном, но излишне хаотичном. Словно закрученном в разные стороны. К прошлому и настоящему, к будущему и вообще неизвестно куда. Да и тишины никакой. Гудки, музыка, дворники, милиция, гидравлический молоток по свае стучит. Прохожие и огни. Правительство и Мавзолей. Большие башенные звезды из рубина. Чеканный шаг часовых. Чудовищная многонациональность. Старинная красота, кривизна переулков, толпы приезжих. Повседневное хамство. Всего за несколько лет город разросся до пределов окружной МКАД, загнал сотни тысяч под землю, прирос кинотеатрами, магазинами, фонтанами, стеклянными пельменными, пивными автоматами по 20 копеек за одну кружку, троллейбусами, памятниками, трамваями, автобусами, а затем и всем остальным, что не так давно принялись надстраивать, сносить, перестраивать, изменять и непрерывно ремонтировать. Невероятно, но факт, что количество граждан колоссального города всего за какие-то десять лет возросло до восьми миллионов, а теперь до четырнадцати. Страна! Третий Рим, а местами Четвертый.
К двенадцатиметровой площади моего проживания в городе Москве добавлю окно на третьем этаже. Сюда же отнесу давнюю трещину на стекле, прошлогоднюю, впитавшую городской смог, вату между рамами, изогнутую арку наверху, крики соседей, липкий запах наваги из кухни, огромные салатовые дамские панталоны на веревке, качавшиеся, словно текстильный флаг в честь коммунальной жизни. Отнесу и легенду о том, что в этом доме, когда он был еще двухэтажный, в шести крупных меблированных комнатах останавливался в сороковых годах позапрошлого века шеф Третьего охранного отделения граф Бенкендорф. Затем дом был надстроен. Несколько новых этажей водрузили на два старых. Невзирая на революционное водружение, тайнодержавный дух Бенкендорфа так и не выветрился до конца. Знающие люди говорили, что затаился он в колпаке железной вытяжки, укрепленной над газовой плитой. Случилась «строительная революция» в тридцатых годах прошлого века. Из-за нехватки жилья в Москве. Народу вокруг до хрена, а жить народу негде. Вот и взялись дома надстраивать. Что и было единственно правильным выходом из создавшегося затруднительного положения с жильем. Нельзя же толпами непрерывно ютиться в громадных общих квартирах под скрип патефонной иглы и с пустыми бутылками на всех подоконниках.
Это, напомню, вещи общенародные, вещи популярные. О них значительному числу горожан было известно в бывшей столице СССР. Во всех газетах так и писали: «Товарищи! Мы сами всё за вас знаем! И вы не суйте свой нос!». Годы были правдивые, таких теперь нет, и знание «за всё» и «за всех» действительно было в те годы полным, главным и таким же окончательным, как всеобщее увлечение песенным творчеством, стукачеством, авиацией, индустриализацией, И.А.Сталиным, светлым будущим и физкультурными упражнениями. А вот о том, что с первыми лучами солнца я, опорожнив кишечник, растягивал резиновый эспандер, знают и сегодня далеко не все.
Мало кому известны прочие подробности, которые напрямую относятся к подробностям моей личной жизни. Например, то, что после троекратной растяжки эспандера я приходил к выводу, что рано еще доставать заначку «партийного» из тьмы гардероба: пусть до настоящего праздника долежит. Вместо заначки, я не из шкафа, а из ящика в диване свои кожаные ботинки на шнурках доставал. Это были крепкие приятные ботинки, и я ставил эти крепкие приятные ботинки аккуратно на пол мысок к мыску, пятка к пятке, подошвами вниз, шнурками вбок. Поставив их в еще более удобное положение, я садился на диван и, сжав обеими руками голову, размышлял о том, что вот и пришло время опять шнурки зашнуровывать.
Доезжал я в своей матерчатой кепке и кожаных моих, приятных ботинках до места службы. Некоторые фрагменты службы приведены выше, некоторые будут приведены ниже, а некоторые не будут приведены никогда, хотя я заранее подтверждаю их подлинность. Нет у меня сомнений ни в самих фрагментах, ни в их достоверности.
Ужасно большая площадка под будущее фешенебельное здание со шпилями и горельефами, названное кем-то из остроумнейших людей своего времени «Отелем разбитых сердец». Что они под этим подразумевали? Какие архитектурные иллюзии выстраивались в их головах? А что до площадки, то размеры ее были действительно колоссальны, невероятны. Более точному определению размеры ее не поддаются хотя бы в той мере, в какой могла бы поддаться личная жизнь одного из моих товарищей детства. («Ба! Ты ли это, Александр Петрович!») Поэтому утром осенним туманным о чем-нибудь крикнув в ближнем конце потрясающей площадки, можно было лишь вечером расслышать отголоски того же самого, но в дальнем ее и туманном конце.
Громадный плацдарм находился километрах в двадцати от моей комнаты. Как добирался я до него? Как город преодолевал?
Кроме двух диких пересадок на Комсомольской площади и автобуса с железными поручнями, запомнились суконные спины, какая-то дверь, которая не открывалась не только внутрь, но и наружу, пустые скамейки за витой чугунной оградой, желтые приземистые дома. Сам удивляюсь, каким образом дважды в сутки я ухитрялся двадцать километров пути позади оставлять.
На службе я так изматывался, что ни в каких записках выразить невозможно, а уж тем более в сумбурных. Можно только представить бледного худощавого человека в кепке, который с оптическим прибором Данжона тащится по осенней грязи черт знает куда. Он не понимает, почему не только ноги его и ботинки, но и весь остальной организм кажутся ему тяжелыми и чужими, словно это не он, а какой-то другой человек, попавший в еще более затруднительную ситуацию.
Без всяких мыслей лежал я потом на промасленных телогрейках в нашей душной каптерке, ожидая восхода луны. Незабываемы детали обстановки: стакан на столе, гвоздь, вбитый в стену, чьи-то носки на изогнутой теплой трубе маленькой буржуйской печки.
Вдруг скрип железных петель, свист ветра.
И входит в узкую дверь не наша приземистая кадровичка, а непосредственный мой начальник, бывший полковник бронетанковых войск. Геодезист очень крупный и на стройке, что называется, самый главный. Он – в плащ-палатке по случаю непогоды, на голове – армейская фуражка без звезды. Он – влажный и серьезный.
Закурив папиросу, бывший полковник присаживается у меня в ногах.
- Вы, Армяков, почему тут лежите?
- А что надо делать, Сергей Львович?
– Как что? Свое место в жизни определять. Свою личность в суете проталкивать. Из самого себя человека строить.
Он сидит и отчего-то не уточняет, из каких подручных материалов следует «из самого себя человека строить». Он курит папиросы, я – сигареты. Погода за окном – говно.
- Сергей Львович…
- Что вам, Армяков?
-Сергей Львович… А камикадзе, правда, прилетал?
- Кто?
- Камикадзе.
- Какой такой камикадзе?
- Ну, японский летающий смертник. Вы мне еще в сентябре о нем говорили.
- В каком таком сентябре?
- В позапрошлом.
- Ну, говорил. Что из того? У вас какие-либо сомнения по этому поводу?
- Да не то что бы… Вы же сами знаете, как бывает. Работа у нас очень тяжелая.
- Вот тут вы правы, Армяков. Работа у нас действительно очень тяжелая… А что касается камикадзе… Вы понимаете: война!
( Дождь. Вой ветра за окном.)
- Вторая мировая, холодная с американскими империалистами или на реке Халхин-Гол?
- Не только.
- А какая еще?
- Да мало ли какая. – Он выдыхает дым, сидит, что-то обдумывая, потом говорит:
-Хотите знать точку зрения настоящего бронетанкового профессионала?
- Да, очень хочу.
- Так вот. Я много на эту тему думал, очень мучительно думал. Я и свою даже бывшую жену всем этим утомил… Она, скажу вам, Армяков, и без того дура, моя Галина Аркадьевна, а тут я еще утомляю… Она кастрюльками погремит, тарелку борщика нальет, а после мне: «Хочу, чтоб ты мне комбинацию розовую купил! Я очень комбинацию хочу! Ты мне подаришь ее, а я сброшу ее при тебе с плечей покатых своих на деревянную спинку старинного стула!». А я сижу, гляжу на нее, на ее шею, грудь, бедра, а сам думаю: «А где ж я тебе, Галина Аркадьевна, такое бельишко-то возьму? В какую лавку бечь за ним? Куда навостряться?». Ну, и ночью иной-то раз она ноги раздвинет, а у меня – ничего! Позорная капитуляция… Наконец, так меня все это донимать стало, что хоть на луну вой. Ну да ладно. На кой черт серьезному мужчине на луну выть? Не дождетесь! Напротив, я стал прочно думать об этом и даже ночью не спал, то есть опять думал. И вот пришел к выводу, что на всякой войне столько мерзостей, столько гадостей, столько пакостей, столько страха, однако очень много даже диких неожиданностей.
Тут дверные петли вновь заскрипели. Дверь медленно и тяжело, словно преодолевая давление воздушной среды, отворилась, и на пороге появилась приземистая женщина лет тридцати, в накинутой на плечи рыжей шубе и зеленой невообразимой шляпе. Этой женщиной, довольно-таки полноватой в бедрах, и была наша кадровичка Наталья Николаевна Голубятникова. В невообразимо зеленой шляпе и черных сапогах типа «чулок».
- Сергей Львович!..
- Слушаю вас, Наталья Николаевна.
- Вы мне когда список вашей бригады дадите, а то я, извините, не понимаю, скольких человек на премию подавать, а скольких не подавать?
- Скоро дам, Наталья Николаевна. Мы вот сейчас тут с моим юным помощником кое-что по картографии обсудим, а потом сразу и дам.
- Так вы уж дайте, а то время-то идет. До окончания работ еще не так уж мало, а на премиальные подавать все равно надо. Когда же я буду вас всех подавать?
- Подадите еще, Наталья Николаевна.
- Ну, сами глядите, Сергей Львович. Мое дело предупредить.
Она вышла, хлестко закрыв за собой дверь, а Сергей Львович, проводив ее взглядом, сказал:
- Эх, хороша баба! Эх, хороша белокурая! Одна трех ребятишек на дому воспитывает!
Он опять о чем-то задумался, затем, постучав мундштуком папиросы по крышке коробки с надписью «Обводной канал» и дунув в мундштук, продолжал:
- Стало быть, на чем мы остановились?
- На том, что красивую розовую комбинацию для жены не знаете, в какой лавке купить.
- Да, не знаю. Говорят, что есть где-то потайное место с высокими напольными часами. Но как попасть законченному ветерану в загадочную лавку?
- А еще вы говорили, что на войне всякое бывает…
- Конечно. На то и война. Теперь-то вон мирное время; теперь жратва и бытовые вещи на самых первейших местах; а тогда мы об этом меньше всего думали. Мы, как говорится, с оружием в руках… И защитили, надо сказать… Однако война она и есть война, чего уж тут... Тут совершенно не исключено, что он прилетал, тот гребаный камикадзе по крайней мере. Не могу вам сказать, с какой стороны появился. Помню, что на восходе, а то и на закате… А взрыв был ничего себе… Рвануло тогда… Да еще с какой силой рвануло… Эх, как же рвануло тогда! Да с такой силой… Так жахнуло, что стакан с чаем в руке моей лопнул, уши у меня заложило, а его голову в летном шлеме нашли в двух километрах от эпицентра… Месяц искали; думали, что японцы абсолютное оружие изобрели… А уж к тому времени, когда нашли, я из-за контузии в госпитале оказался… Врачи мне недели две длинный инструмент какой-то в задницу совали. Засунут мне железный инструмент, а сами спрашивают: «Как вы себя чувствуете, товарищ полковник?»… И крутят им там, боль невыносимая… А после консилиум был: шесть человек. Тот-то консилиум и постановил: повреждение мозжечка и, стало быть, всего вестибулярного аппарата. Как они это определили, не могу вам сказать, но инструмент отменили… А потом один доктор, приятный лысый мужчина такой, в очках, знаете, с такими вот толстыми стеклами, однажды дверь отворил и в палате у нас пошутил: «Ну, пиздец тебе, Львович. Будешь теперь, как пес за хвостом, на одном месте вертеться».
Новые ощущения
За много лет до разговора в каптерке мой друг и товарищ Александр Петрович Тыквин тоже склонен был пошутить, однако не склонен к тому, чтобы на одном месте даже в шутку вертеться. Он эту премудрость так и не постиг, освоив с годами множество иных премудростей, связанных с его последующим невероятным взлетом, радикально отличавшимся от беготни пса за хвостом. Вместе с тем он, хотя и не в полной мере, был уже тем, кем навсегда остался: другом моим и товарищем, Александром Петровичем Тыквиным. Правда, был он еще не такой умный и проникновенный Александр Петрович, каким стал в юности, а после и в зрелости, которая в течение нескольких секунд могла бы трагически завершиться катастрофической неприятностью в голубом безоблачным небе над Средиземным морем.
И вот было ему немногим более десяти лет, и вот родители ему на праздник резиновую пищалку «уйди-уйди» подарили. И вот он вышел попищать искрометно ею во дворе. Но недолго и с упоением пищал он ею во дворе, поскольку к нему наш дворовый великовозрастный хулиган по кличке Шнобель подошел. Хулиган Шнобель ходил вихляющей стильной походкой по всему нашему двору. И вот он вихляющей походкой к нему подошел и сказал: «А дай-ка ты, мудила грешный, и мне попищать!». И вытащил ржавый болт из кармана. А потом Тыквин с болтом, в гимнастерке и с готовальней в школу ходил. До пятого класса спокойный был человек. А в пятом классе неожиданно для себя проявил повышенный интерес к тому, какого цвета нижние штаны на учительнице биологии. Учительница была приятной молодой женщиной с пепельными волосами, однако, несмотря на это, она его интерес к своим нижним штанам не сумела удовлетворить, так как мой друг не обнаружил в себе достаточно мужества, чтобы громко заявить о своем внезапно проснувшемся любопытстве. Не найдя своего места в школьной эротике, он с неожиданной стороны проявил себя в нашем дворе, когда с покатой крыши бомбоубежища плюнул в Матвея Борисовича, нашего дворника – человека, крайне мало похожего на японца, но заядлого человеконенавистника и особенно по отношению к нам, детям. В дворника Матвея Борисовича мой друг детства Александр Петрович попал. После чего дворник Матвей Борисович в Александра Петровича тоже плюнул. Но не попал.
В тот же день, поближе к вечеру, дворник Матвей Борисович от расстройства занемог. Граждане – в кино и на концерты, а кое-кто уже и поужинать вкусно собрался, звезды на башнях зажглись, а тут вдруг дворник занемог. Он, короче говоря, поближе к вечеру стал заговариваться, забываться, периодически трястись и без видимой причины коситься на, стоявший в углу, ширпотребовский бюст И.В. Сталина, который, в свою очередь, косился на него. Еще дня через два дворник Матвей Борисович слег окончательно. Мы, дети, бегали к его окошку и, перевернув мусорный бак, взбирались на него, чтобы сквозь мутное стекло поглядеть, как он слег окончательно. А к утру он совсем осунулся, пожелтел. Потом стали по радио утренние упражнения передавать, однако и это не смогло поднять его, не влило в него бодрости. Сутки опять пролежал он без всякого движения, затем попросил у кого-то «прощения за все» и, как говорится, навеки отправился туда, откуда уже нет возврата любому, кто бы ни был он по земной его специальности.
Александр же Петрович вскоре повзрослел и под воздействием множества иных историй приспособился к иному и разному. Мог восхититься нижними штанами не только на учительнице биологии, а и на всех остальных изящных учительницах, или на тех, которые изящными представлялись ему, чем-то напоминая одну зарубежную киноартистку, про которую он еще не знал, как ее зовут. Неумеренно восторгался он и традиционным миганием праздничных лампочек на Центральном телеграфе, прекрасно умел с выражением прочитать наизусть отрывок из «Носа» Н.В. Гоголя. После прочтения отрывка еще из какой-то книги, похожей по цветным иллюстрациям на древнеиндийскую «Камасутру», он позволял себе странные выходки, природа которых настолько сложна, что до сих пор не поддается объяснению. При этом уши у него оттопыривались, а воротник был поднят. Шапка надвинута на уши. Вид замечательный!
Попытки жениться
Здесь ненадолго оставлю товарища в шапке, надвинутой на уши, и вновь скажу о себе. Что принуждает меня к этому? Наверное, то обстоятельство, что, согласно корявому рукописному графику, укрепленному в общем коридоре, один-два раза в месяц была моя очередь мыть и тереть места общего пользования. Я ненавидел это занятие и ненавижу до сих пор. Моя ненависть к нему – еще одна не столько сюжетная, а сколько нравственная составляющая хаоса данных записок.
Скажу еще, что звуковые пассажи канализационных труб – не самая вдохновенная музыка, порожденная человеческим гением. Возможно, что и ржавый сливной бачок, поразительно редкий в период расцвета импортной сантехники, – не просто ржавый бачок, а из области явлений, высшему разуму неподвластных. Вместе с тем липкий запах жареной наваги относится к популярной кулинарии, но никогда не относился к гуманитарным победам человечества в области сохранения биосферы. Во всем остальном романтика все же была, дух ее сохранялся, и дамские салатовые панталоны на веревке в кухне вполне сойдут за символический флаг этой романтики.
Мои амурные приключения… Они были проще. Они были в чем-то успешней, чем несколько навязчивые и не слишком сексуальные взаимоотношения бывшего полковника с приземистой кадровичкой и ее зеленой шляпой. Между тем примечателен и тот факт, что мои амурные приключения начинались практически ни с чего. Точнее говоря, не помню, с чего они начинались. Со стука ложки об стакан, доносившегося с неведомых мне просторов. С давки в городском автобусе, когда лишь мелькнет впереди рослая красавица-брюнетка в оранжевом пальто и кожаных черных перчатках. С вытряхнутой в общественный унитаз вчерашней чайной заварки. С выщипанных бровей. С тура твиста в прокуренной шашлычной с собачьим названием «Джульбарс», где и скатерти были, и стулья, и официанты тоже были, и все они были с нездоровым румянцем на щеках и карандашами за правым ухом. Они двигались ловко и почти бесшумно, а обсчитывали по-божески. А музыканты играли пьяно, но вдохновенно. Особенно классно играли они «Подмосковные вчера» на видавшем виды, облезлом, словно старинный комод, контрабасе.
И все же в ту осень я впервые в жизни добился претворения в реальность своей заветной мечты: я у себя в комнате с очень близкого расстояния внимательно рассмотрел большой и влажный «цветок любви». Он оказался в наличии у длиннолицей женщины, с которой я познакомился неподалеку от магазина женской одежды «Светлана». Она мне свой «цветок» ни в магазине, ни рядом с ним показывать наотрез отказалась, мотивируя «прохладной погодой в Москве». А после мы с ней ко мне пришли, и я кое-что побыстрому на стол собрал, чтобы с женщиной за столом посидеть и со вкусом покушать. И уже на сытый желудок она решилась на то, чтобы все ж таки мне его показать. «Ну, погляди, если ты такой чувачок любопытный. Жалко мне? Я и свои фиолетовые рейтузы могу снять. Для чего мне теперь-то в них париться?»
Дальнейшее развитие сексуального интереса привело к тому, что я чуть не женился, поскольку очень хотелось не урывками, а постоянно разглядывать влажный «цветок любви». И вот, впервые в жизни, я чуть не женился на мимолетной какой-то рослой красавице, на девушке в оранжевом пальто с зелеными пуговицами. Если память не изменяет, это была жгучая брюнетка с длинной шеей и в кожаных черных перчатках. Познакомился я с ней то ли в трамвае, то ли в автобусе, то ли на выставке станковой живописи на Манежной площади, куда я несколько раз собирался в ту осень пойти.
Вскоре я вновь собрался жениться. Теперь уже на круглой бедной сироте с упругой девичьей грудью, с темным треугольником внизу живота и маленькими розовыми ушами. С фигурой, как песочные часы. Из ближайшего Подмосковья. В свободные от работы на стройке минуты я трогал пальцами ее девичью грудь, а на ухо шептал ей всякие сладкие слова о нежности и любви. И ночи на моем диване были таинственные, и были ночи фантастические, как первый белый снег, выпавший однажды утром на оконный карниз… Сирота очень стеснялась показывать мне свой «цветок любви», резонно ссылаясь на то, что до меня никому его не показывала, да и на площади перед сельмагом это у них не слишком-то принято. Когда я её первый раздевал? Возможно, что весна была. А вдруг опять осень?
Однажды, после вечерней прогулки в Нескучном саду мне показалось, что она претендует не на меня, а на мою комнату в самом центре Москвы. На деревянный мой шкаф, бугристый диван, полупустую пачку «Явы» на столе, на электрическую лампочку в черном патроне, на чугунную гармонику батареи центрального отопления. От этой тревожной и заставленной домашним оборудованием мысли я был весь следующий день скучен и нелеп. Я долго искал свою кепку, а на работе испытал прилив страшной и необъяснимой ненависти к беготне по огромной строительной площадке. Своему начальнику, бывшему военному, я задал несколько нескромных вопросов вовсе не о факте его контузии. Я зачем-то спросил у него про его давний развод, вызвав тем самым разочарование и суету в легко ранимой душе участника битвы на ветреных берегах монгольской реки Халхин-Гол. Вернувшись с работы домой, я постелил себе на полу, а ночью как сомнамбула ходил по коридору мимо коммунальной кухни и встретил только одного человека – плоского, словно дверь, жильца Бактюхова в наброшенном на голое тело сером пиджаке. Этот жилец меня увидел сперва, затем он у меня стрельнул закурить, потом он мне сказал:
- И тебе, брат, не спится.
На что я сказал:
- Да, брат, и тебе.
Этот был тот самый Бактюхов Петр Павлович, который под праздник жильцам в квартире не так уж важно удружил. Итог, можно сказать, печальный получился и в значительной степени трагический. Все дело в том, что Петр Павлович Бактюхов руки на себя наложил под самый праздник, прицепив свой брючный ремень пряжкой к крючку на потолке. Это произошло при роковом для Петра Павловича стечении обстоятельств, имевших место на почве измены его изящной жены в капроновых чулках. Измена состоялась в одном из новых спальных районов Москвы – где-то в районе Свиблова. А о его самоубийстве стоит заметить, что случилось оно незадолго до общенародных праздничных торжеств, сразу же после вечернего выпуска «Последних известий». Неумолимо надвигались шумные и разноцветные торжества, и положено было, по соображению дяди Пети Сандальева, «не брючный ремень пряжкой к крючку прицеплять, а овощной винегрет сметаной или майонезом заправлять, е… его в кочегарку!». Что же ты, Паша, наделал?
Завидное постоянство
Легко догадаться, что я далеко не всегда и не всё понимал. Мое непонимание с годами прогрессировало и, по моему глубокому убеждению, является теперь важнейшей составной частью сумбура окружающей жизни и моих записок. Да, я и теперь далеко не всегда и не всё понимаю. Недавно все центральные газеты на первые полосы вынесли: со стороны Аргентины двинулись на Москву полчища геев и лесбиянок. Никак не соображу: как такое могло произойти? А что такое, намеченный на весну 2020-го года, полный конец света с полным исчезновением всех достижений цивилизации? А что такое государственные инвестиции в индивидуальную психологическую сферу? Опять никак не соображу, что это может быть такое.
Я и по нашему населению не всё понимаю. Зачем отдельные его представители в пиджаках на голое тело готовы руки на себя наложить? Зачем они столь сильно во всём нуждаются даже теперь, в обширную эпоху материального расцвета производства пищевых продуктов и товаров народного потребления? Для чего природа распорядилась ими так, чтобы они успешно прошли узкие родовые пути, но так и не обнаружили в себе достаточно сил, чтобы разобраться, для чего они эти пути проходили?
Я и по человечеству, способному до бесконечности штурмовать космическое пространство или реки поворачивать в сторону Адыгейского моря, не совсем хорошо понимаю, хотя не сомневаюсь в таинственной притягательности отдаленных миров, созвездий и адыгейских морей. А по милитаризму мое непонимание самое стойкое. И по социальным конфликтам, и по сложнейшим проблемам отношений между полами, и по зарождению жизни в водной среде, и по геному человека, и по наличию «спиртовых оборотов» в стеклянных бутылках, куда на заводах разливают разные виды винной и ликероводочной продукции.
Наверное, на меня и моего друга по-разному небесные светила влияли. Наверное… А отчего же не повлиять? На нас и всё остальное как-то особо влияло. Далекая пока авиационная катастрофа и «партийная» заначка в платяном гардеробе… Москва… Железные крыши… Луна… Два окна на шестом этаже… Октябрь… «У летчиков» (гастроном)… Ну, два же человека, а не один… И оба, хотя и друзья, а всё равно не так уж слишком похожи друг на друга по генетике, по морфологии, по росту, по цвету глаз, по конфигурации рта, по высказываниям, по гортанным крикам в ночи или молчанию на заре. Отсюда – вся разница. Отсюда – и небесные светила со всем их влиянием на обоих друзей. И прежде всего известное человечеству полнолуние, влияние которого даже на самых закадычных друзей не изучено до сих пор. Что еще? Сенсационные вспышки сверхновых, магнитные бури на Солнце, военная звезда Марс, подорожание проезда в городском такси на 20 копеек, иные общественные катаклизмы… Так что если всю дорогу по тротуарам ходить и с необходимым в таких случаях любопытством у витрин у стеклянных стоять, не учитывая влияния на друзей небесных светил и более приземленных явлений, то тогда вообще невозможно ничего объяснить. Есть, правда, люди, прекрасно умеющие до всего докопаться и во всём успешно разобраться. Любую проблему щелкают, как орех. Но ведь и они частенько ошибаются. Однако лично у меня наибольшие затруднения вызывают не ошибки этих людей, а дурацкие словесные и смысловые повторы, к которым склонен и я. Повторы навязчивы, их трудно объяснить. Их так же сложно до полной ясности довести, как наши с Александром Петровичем серьезнейшие разногласия по целому ряду вопросов, включая мироздание, эрекцию на заре и весьма вероятное, по его мнению, наличие стеклянной заначки «партийного» в кромешных потемках моего шкафа. К тому же он давно уже проходил курс обучения на обширной кафедре в главной московской ВПШа и отчего-то на одном и том же курсе. А я не проходил. Я еще только собирался, дождавшись летней изматывающей духоты, поступать в среднее техническое учебное заведение, и в голове моей царила невообразимая путаница, какое из многочисленных московских учебных заведений выбрать для продолжения образования. Где окажется гипсовый бюст в вестибюле? И я, время от времени перелистывая у себя в комнате какой-то справочник, останавливал свой выбор на картографическом техникуме. Но и другие мысли были у меня, похожие по раскладу на некое «троепутье», о котором я где-то что-то то ли вычитал, то ли в городе померещилось мне «троепутье» в виде переплетения трамвайных путей и троллейбусных проводов.
Влияние оказывало и то, о чем я уже говорил: повышенное отделение половых гормонов в кровь, а также мое сексуальное любопытство. Иной раз это любопытство достигало невероятной силы, и я готов был либо опять попробовать на ком-нибудь жениться, либо, сорвавшись с места, оставить все свои будущие премиальные в прокуренной шашлычной на углу.
А иной раз меня так и подмывало совершить что-нибудь еще более радикальное, если не из ряда вон выходящее. С тихим внутренним возгласом и в матерчатой кепке на голове я готов был всё бросить и, резко с места сорвавшись, полететь по осенним улицам столицы в сторону холодной брусчатки на площади имени великого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова – легендарной брусчатки, овеянной славой предания прошлых лет. Что за предание? Да просто о том, что когда-то в щегольских кожаных сапогах уверенно прошелся по площади великий советский летчик-испытатель в поисках сыра «рокфор». Но дело не только в «рокфоре», любимом сыре великих советских летчиков-испытателей. Ходили слухи, что если крупно повезет и кулаком по роже не схлопочешь, то можно возвратиться с холодной легендарной брусчатки не одному. Можно привезти оттуда на трамвае какую-нибудь темпераментную блондинку или брюнетку с горящими от желания глазами и – как нормальное следствие физиологии юношеских сновидений – в широкополой зелёной шляпе. И шляпу свою эта любвеобильная женщина не должна была отчего-то снимать, сняв с себя всё остальное. Весьма характерными были старинное аргентинское танго из моего лампового радиоприемника и ее реплика:
- Ты чего там у стенки с кепкой стоишь? Ты давай там с кепкой у стенки не стой. Ты давай помогай комсомольцу.
Кто был тот, нуждавшийся в помощи, долговязый комсомолец? Для чего у стенки стоял?
Хочу здесь еще раз напомнить желтый классический свет. Он исходил от столичных фонарей в ночи. Грохотал по стальным рельсам и «полночный трамвай, какой по улицам мчит», и возвышался каменный памятник Депутату Балтики, который лучше смотрелся в дождь, чем в ясную погоду. Афишу с актером из Франции, Фернанделем, с фасада здания снимали периодически, однако к утру она вновь появлялась на том же фасаде, что, безусловно, радовало глаз москвичей, поклонников прекрасного француза. И Александру Петровичу необыкновенная история с обыкновенной афишей глаз тоже радовала. Так было устроено его не наружное, а внутреннее зрение.
Возможно, испытывал он прилив безграничного ликования и от многого другого. Перечень позывов к ликованию велик и постоянно преумножается. Поэтому в своих записках я не всегда привожу всё самое важное, а только лишь какие-нибудь китайские резиновые кеды, дядю Петю Сандальева, свой пружинный диван, многодетную кадровичку или мелкие золотистые баночные шпроты в масле.
Он приходил ко мне и находился в моей милой комнате, стремясь разнообразить и без того обширный перечень позывов к дальнейшему ликованию. Он мечтал дополнить его вещами удивительными и совершенно необычными. Вроде огромного расстояния от рослой взрослой Веревкиной в оранжевом подольском пальто с черными пуговицами до умопомрачительной американской Мэрилин Монро в шелковом калифорнийском исподнем.
Он утверждал, что условия нашего бывшего детства, нашей бесшабашной юности и грядущего периода возмужания можно охарактеризовать как «вполне благоприятные», а можно не охарактеризовывать. Делал он, конечно, массу существенных оговорок по данной теме, и самой внушительной оказывалась самая нестандартная: «Не о том, чувак, ты в душном кабаке поешь!». Не скрою, что и по сей день не до конца понимаю, что он имел ввиду, поскольку я чуваком, конечно, был, но в одном из душных кабаков Москвы не пел никогда. И не припомню случая, чтобы он уточнил, о каком из душных кабаков идет речь, какая вывеска мигает над входом в него и какой рельефной внешности швейцар распахивает тяжелую стеклянную дверь перед очередным посетителем, облагороженным большими оттопыренными ушами. И в этом тоже проявлялось упорство моего товарища, его завидное постоянство, его стабильность почти во всех характеристиках и привычках. Он был на редкость верен себе.
Не раз он мне звонил; не раз о чем-то спрашивал; не раз пропадал куда-то на каменных просторах Москвы. Но возвращался. Вернувшись, он у меня в комнате демонстрировал еще одно из основных своих качеств. Он приобрел его в детстве, когда, сидя в кухне на табуретке, впервые услышал какой-то гул в металлическом колпаке кухонной вытяжки. Он еще не был знаком с бессмертным духом шефа 3-его отделения. Он и троллейбус от хлеборезки отличать еще не умел, и в русской азбуке сильно путался. Но он уже был прозорлив и талантлив. И, как талантливый человек, хотя далеко не единственный герой моих сумбурных воспоминаний, он (пока еще смутно) себе представлял, что исключительно из-за непрерывного и восторженного коитуса человечество повышает свою численность. Много веков подряд.
Таким же талантливым он останется навсегда. Вплоть до безрадостного инцидента в безоблачном небе над Средиземным морем. А то и после него. Героям не свойственно умирать.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Билет в кино
Он жив, и вижу я его изрядно повзрослевшим, в шляпе и бритым. Он уверенно входит в дверь. Дверь закрывается; шляпа летит через всю комнату; он садится на стул и, посидев на нем, неожиданно вскакивает и оказывается в районе моего деревянного шкафа. Вижу его и на заставленных просторах столицы, среди заводов и фабрик, казенных учреждений и ангаров, среди «людей и машин». Я вижу его набравшимся жизненного опыта, узнавшим многое из того, что не дано мне узнать до сих пор. Он – взрослый, серьезный герой. Зовут его, стоит напомнить, Александр Петрович Тыквин. Да, тот самый Александр Петрович, который в длинном демисезонном пальто выходил из подъезда и, плавно размахивая рукавами, двигался по многолюдной Москве. Вскоре оказывавшись на Большом Каменном мосту, напротив столичного Кремля, он, глядя на кирпичную кондитерскую фабрику «Красный Октябрь», курил, плевал в реку и, бесшумно надувая щеки, любовался отражением фонарей в темных водах полноводной столичной реки.
А то еще, обуреваемый страстью не к отражениям, а к «волшебной лампе» проекционного кинематографа, он заворачивал в кинотеатр «Центральный», давно уже снесенный вместе с многолюдным буфетом, где темное пиво «Портер» народ заедал бутербродами с пошехонским сыром. Кинотеатр, напрочь стертый с лица Москвы с той трагической безвозвратностью, что и ближайший к нашему дому гастроном «У лётчиков». Удачно миновав длинную молчаливую очередь и всунувшись по плечи в узкое окошко кассы, он сладострастно приобретал шершавый бумажный билет за 20 копеек (их ему давал я) и в неполной темноте кинозала упорно и в десятый раз просматривал кинофильм «Некоторые любят погорячее» с участием самой популярной белокурой американской кинозвезды ХХ века. Норма Джин Бейкер, а иначе Мэрилин Монро, была и на экране, и в жизни неподражаема. Она и теперь неподражаема, что бы и кто бы об этом ни говорил, ни писал. А тогда, за несколько лет до самоубийства на голливудской вилле, Мэрилин играла главную роль в известнейшей кинокартине. Она была партнёршей двух других американских кинозвезд, переодетых, по замыслу авторов картины, в шикарных джазовых женщин. Оба они от гангстеров еле-еле спаслись, попав под беспорядочную криминальную стрельбу в каком-то заброшенном американском гараже.
Несколько позже Александр Петрович блистательной Норме Джин изменил как в физическом, так и в духовном смысле. О физической измене я вам позже расскажу: ее фамилия, как сейчас помню, Веревкина, хотя и не Веревкиной она тоже могла быть (вот тут я опять не соврал). А о духовной постараюсь немедленно сообщить, что такая измена имела место не с каким-нибудь задроченным американцем, а с невероятно знаменитым американцем немецкого происхождения. Им оказался бывший водитель американского большегрузного автомобиля и уроженец городка Тьюпело. Звали уроженца Элвис Аарон Пресли. Измена случилась на том основании, что Пресли, хотя и послабее кинозвезда, но поет так, что вот уже десятки лет подряд замирают сотни тысяч сердец во всех концах света.
«Букет Абхазии»
Здесь я намерен сказать, что в моих хаотичных, во многом противоречивых заметках ведущее место отведено не столько физическим, а сколько духовным поискам моего товарища. Они у товарища всегда были трудными, всегда мучительными. Таковыми они и остались. Он явно и намеренно действовал по принципу: «чем дальше, тем труднее».
Взял старт этот тяжелейший процесс в то далекое и наивное время, и, собственно, о том далеком и наивном времени стоило бы поговорить устно или же в письменной форме. Тем более что, как рассказал мне сам Александр Петрович, только что отзвучали бурные аплодисменты в адрес Никиты Сергеевича Хрущева, произнесшего историческую речь на закрытом пленуме ХХ съезда КПСС.
Мой друг детства, одетый в коричневые ботинки и короткие черные штаны на бретельках, сидел в кухне на высокой деревянной табуретке и ногами болтал, когда донеслись до него долгие и продолжительные аплодисменты. Произошло это, видимо, в пятницу, а могло и в четверг, а также, наверное, в среду. Точная дата значения не имеет. Тем более что Александр Петрович еще очень плохо в истории разбирался, а еще хуже в глубинных причинах донёсшихся до него аплодисментов. Поэтому дребезжание черной тарелки комнатного радио и навело его на мысль, что дребезжит она из-за каких-нибудь «токов Фуко», а не по причине хлопанья в ладоши. Больше того, путаясь в русском алфавите, не зная, как правильно пишется «ча-ща» и «жи-ши», кто такой Бенкендорф и был ли он вообще, откуда возьмется «светлое будущее» и мало понимая, чем отличается троллейбус от хлеборезки, он был настолько наивен, что даже не предполагал, что начнет кое-что понимать в этой жизни значительно раньше, чем кто-либо из его сверстников, похожих на меня. При этом, надо полагать, кое о чем он догадывался хотя и активней меня, но пока еще смутно.
Догадывался он и о том, что через несколько лет с покатый крыши бомбоубежища плюнет в дворника, в нашего подметальщика и поливальщика Матвея Борисовича, мало по каким параметрам похожего на японца. При этом техническая сторона акции была для него столь же туманной, словно электро-механическое устройство кинодемонстрационной установки.
Скромно осознавал он и то, что утратит свою мужскую невинность когда-нибудь без всяких аплодисментов и при весьма поразительных обстоятельствах. Словно сквозь марлю, мерещилось ему, что первый в жизни сексуальный опыт получит он не в средней школе и не с учительницей биологии, а в комнате с лепными потолками, куда он с улицы попадет и где розовая дамская комбинация покажется ему особо женственной и сексуальной, поскольку небрежно будет брошена на антикварную спинку стула. Хозяйка стула, лепнины на потолке и розовой комбинации – фигуристая блондинка лет тридцати. Она примется без всякого стеснения при нем раздеваться, а он возьмется стоять посреди комнаты, завороженный плавными, призывными и неизвестными ранее движениями раздевающейся женщины. А затем она, раздевшись до розовой комбинации, а после сняв и ее, ляжет и примется на кровати лежать, сами понимаете, в какой позе. Она скажет ему: «Возьми канделябр вон тот с пианино, муж мой не скоро вернется». И каких же заоблачных высот достигнет его удивление, когда, бог весть для чего взяв канделябр, он с этой медной штуковиной двинется в сторону белокурой и раздевшейся мадам, и тут же огромный военный дядя в усах, фуражке и погонах внезапно окажется рядом с ним, да еще с металлическим огнестрельным пистолетом в правой руке! И он мне сам потом в порыве откровения говорил: «Ты, знаешь, Армяков, я – человек не самый трусливый. Я и нашему профессору Дроцкому порой такое вставлю, что тот принимается в бешенстве по всей кафедре бегать. Но тут от неожиданности я так испугался, что чуть по большому под себя не сходил».
А то, уже названное мной, посещение площади имени великого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, тогдашнего прибежища «жриц продажной любви», бравших за услуги от 5 до 10 рублей за ночь с одного клиента, никогда не входило в обязанности моего товарища и друга. Посещение площади было моей прерогативой. Хотя, если честно, я посещал площадь редко, даже слишком редко для того, чтобы давнишняя продажная любовь стала моим нынешним лирическим откровением. Юный подручный геодезиста, я беседовал с Сергеем Львовичем про войну и далеко не каждый день имел достаточно средств на любовные утехи коммерческого характера. Включая и наслаждение от вдыхания густого аромата сыра «Рокфор».
Серьезнейшим тормозом являлась и вполне обоснованная вероятность «намотать на конец», о чем замечательным матом умели поорать мужики в нашей душной каптерке. (Громче всех орали все, в том числе слесари Михалыч и Шумелыч. А еще громче всех – оба наших неразлучных плотника, Смирнов и Кузякин.) На лицо, похоже по всему, была жестокая опасность подцепить весь букет венерических заболеваний, известных в Москве. А если еще раз взять целиком весь букет, то на центровом столичном жаргоне он назывался «Букетом Абхазии». (Клиническое название – «Докторский вариант».) Никакого отношения к солнечной и теплой республике он не имел. Если бы он назывался как-нибудь иначе, то и тогда бы не имел. Связь с компактной мандариновой страной, её ледяными, ослепительно белыми вершинами, прозрачными озерами, вкусной рыбой, фруктовыми рынками и мусульманским населением была бы надуманной и в чём-то иллюзорной. Впрочем, даже иллюзии сами по себе ничего не объясняют. Нельзя за чистую монету принимать мои личные предположения, и я вам настоятельно рекомендую за чистую монету их не принимать. По-моему, за самую чистую из всех известных монет вам следует принять то, что Александр Петрович при одном лишь намеке на столь печальный букет тут же трезвел, на середину комнаты выбегал и, простерев руки к потолку, что-то нес про «полнолуние, тускло освещавшее холодную брусчатку». Кто мог подумать, что в человеке, простершим руки к потолку, скрываются еще более сложные и тонкие особенности, чем обычная связь с силами небесными и разуму неподвластными?
Появление матери
Красив и примечателен образ моих заметок, и сумбур в них не менее красив и примечателен. Я люблю их повторы, ошибки, невыстроенность, намеренную путаницу, дурацкую задумчивость и неопрятные противоречия в описаниях одних и тех же людей и событий. Всё это дорого мне, подобно заначке в шкафу, и относится к столь же давнему моему восхищению, словно высокая худощавая темноволосая женщина с алой гвоздикой в волосах. Сколько лет теперь той гвоздике? Увяла ли она?
Между тем она была не только худощавой женщиной, украшенной многолетним цветком и одетой в темное вечернее платье с глубоким вырезом на груди. Она еще много дней и ночей подряд, без перерыва, сидя за полинялой шторой, с завидным упорством печатала на пишущей механической машинке. Женщину, машинку и цветок окутывал табачный дым. Она курила и печатала со скоростью 120 печатных знаков в минуту. Пальцев тонких ее не было видно, когда она печатала на механической машинке. Она была очень красивой, очень трудолюбивой, очень худощавой темноволосой женщиной с очень глубоким декольте. Я больше нигде и никогда не видел таких женщин с таким декольте. Правда, была она не просто красивой женщиной. Она была женщиной с алой гвоздикой в волосах и в постоянном вечернем платье с глубоким декольте. Она пережила войну, карточки, смерть Сталина, арест Берии, хрущевскую оттепель, первый советский искусственный спутник земли, ревальвацию, МТС, Карибский кризис, полет Гагарина, гибель Кеннеди, войну во Вьетнаме, Кремлевский переворот, события в Чехословакии, высадку американцев на лунной поверхности, сенсационный распад квартета «Битлз», всё прочее и всё остальное. Она была не только виртуозной машинисткой. Она была домашней героиней машинописного труда и матерью моего товарища. И до сих пор я слышу ее мягкий медленный голос, как, вероятно, важнейшее устное оформление моего появления на шестом этаже.
- …А вы ведь Коля Армяков? Да? Я вижу, что вы Коля Армяков. Саша о вас мне рассказывал, и кепка на вас та же, о которой он говорил. Он говорил, что вы каждый день бегаете сломя голову по какой-то огромной площадке. Это у вас работа такая? Да? Однако молчите, молчите, молчите… Ни слова от вас не хочу слышать. Ни слова! Вы бы лучше сперва избавились от физического, умственного и духовного мусора, а после приходили и вытирали ноги в прихожей. Вы знаете, где учится мой сын? Знаете? Нет? Знаете? Нет? Знаете?.. Ну и не надо вам знать. И прятать бутылку с алкоголем за спиной вам тоже не надо.
И пока высокая дверь, обитая черным коленкором, со скрипом закрывалась, я чувствовал на себе взгляд необычной женщины.
Я его и потом тоже чувствовал, оставшись в одиночестве на пустой лестничной площадке с полукруглым пыльным окном. Не знал я, куда иди мне теперь, зачем идти и что теперь делать. Или мне никуда не идти и ничего мне не делать?
Журавль на этикетке
Здесь отвлекусь от романов. От состоявшихся и не совсем. От тех, что только намечались, и тех, которые в прошлом. От тех, что имели все шансы создать мерцающий золотой ореол вокруг всего происходящего в моих сумбурных записках, однако не создадут его никогда в связи с обидными провалами в моей памяти. Но отвлекусь я от романов не ради чего-нибудь мелкого и несущественного, а ради того, чтобы ещё раз сказать про товарища и меня. О том, что мы с Александром Петровичем часто и откровенно беседовали обо всём. Я, правда, не всегда понимал, с чего я должен начинать, а потом, когда он появлялся в дверях, начинал постепенно догадываться. А когда шляпа его летела через всю комнату, я уже почти не сомневался: вот с этого и начнем. И тут он садился на стул напротив меня и что-то спрашивал про мой шкаф. Насколько он у меня деревянный и что я в него заховал, а вытаскивать пока не собираюсь из-за ожидания каких-то особенных праздничных торжеств. И вот тогда, когда я говорил, что шкаф у меня деревянный и к этому добавлял, что мне пока вытаскивать из него нечего, мы с ним принимались беседовать в полный голос. Кричали и радовались, что мы – настоящие парни, а не фальшивые. Мы всё умеем. В том числе помолчать (что я часто делал) или, как он, с шумом поспорить о том, что действительно есть на этом свете, само по себе существует, а что на этом свете могло бы существовать, но отчего-то не существует. О том, что жизнь так хитроумно устроена, что если что у нас с ним и произойдет, то обязательно в светлый общенародный праздник, а не когда-нибудь после, когда мы с ним уже не будем беседовать ни о чем. Ни о том, что может волновать человечество, ни о том, что может не волновать. Надо ли вновь добавлять, что мы говорили и спорили с ним со всей горячностью молодости не всегда «на сухую», а при мерцании тысяч столичных огней, под музыку по моему ламповому радио. А какого накала, какой эмоциональной высоты достигали споры наши за рюмкой прозрачной водки или за граненым стаканом сладкого «молдавского» портвейна с парящим журавлем на бутылочной этикетке!
Потом журавль улетел куда-то. Эпохи мимо пронеслись. Другая уже была на дворе общественно-экономическая ситуация. Железные бульдозеры будущего с пылью и грохотом снесли в погожий день любимый нами гастроном «У летчиков». Туда, в его многолюдную и шумную духоту, летчиков минут за десять до закрытия набивалось так же мало, как и представителей всех иных родов войск. Кроме юных и нахальных помощников геодезистов. Вот они набивались. Этого я скрыть не могу.
Необходимые уточнения
Вы можете спросить меня: «А не наврал ли я вам?». На что я могу вам ответить: «Я вам не наврал». Вы опять в своем праве спросить: «А не ввел ли я вас в заблуждение?». - «Нет, нет и нет!». - «А не подпустил ли я предпраздничной пурги насчет места моего проживания, района моей работы, уличной афиши с Фернанделем, холодной вечерней брусчатки, «Букета Абхазии», первого сексуального опыта Тыквина, его же дружеских плевков с моста и названия – “Отель разбитых сердец”?». – «Нет! Ни в коем случае! Я, знаете ли, пурги не подпускал!». Тогда вы можете спросить меня вот о чем: «А часто ли, разглядывая журавля на бутылочной этикетке, сидел напротив меня бывший партийный студент с большими оттопыренными ушами, в галстуке с кривыми фиолетовыми огурцами, в незабываемом “джазовом” пиджаке с поношенным хлястиком?».
Сложный вопрос. Невероятной сложности. Примерно того же уровня, что и отечественные изыскания в области генетических особенностей советского человека, или появление отечественной атомной бомбы на излете августа 1949 года. Бомба появилась. Взрывное устройство мощностью 500 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв его погремел на все первые полосы всех мировых газет, предварив взрыв в 1952-ом первой советской водородной бомбы, мощность которой была значительно больше 500 кг в тротиловом эквиваленте. А вот генетические особенности так по-настоящему и не прогремели, навеки оставшись плохо изученными. Однако ответ есть и, надо заметить, весьма обычный ответ: товарищ мой достаточно часто сидел на деревянном стуле и особенно часто в «джазовом» пиджаке с поношенным хлястиком. Это – правда. Еще правдивей мое утверждение, что Александр Петрович сидел вот за этим широким столом в большой старой комнате, прилично освещённой пятирожковой люстрой, которую в самом конце 1959 года собрали рабочие на электроосветительным предприятии «Имени 8-ого марта».
Странный предмет
Провода в желтой матерчатой оплетке связывали люстру на потолке с электрической подстанцией на земле. Превосходно выглядели и полинялые шторы на деревянных кольцах, и слышен был сухой быстрый треск пишущей машинки. Органично вписывались в обстановку запах лука и табачного дыма, книги в толстых переплетах; и какой-то странный до чрезвычайности коридор уходил куда-то, и мерещился розовый свет где-то вдали…
Располагались на вертикальной правой стене черно-белые фотографии в рамках: сюжетов десять-двенадцать (давно не пересчитывал). На любительских фотографических изображениях ничего не происходило и по сей день не происходит ничего. Замерло всё в миг магниевой фотовспышки. А вот люди… Люди оживают, чудесно успев замереть в миг магниевой фотовспышки. Они глядят на меня до сих пор. С нескрываемым интересом смотрит на меня лопоухий худощавый мальчик в полувоенной школьной гимнастерке, стоящий рядом с глобусом. Пристально разглядывают меня и пожилой дореволюционный солдат с трехлинейной винтовкой, и чья-то хорошенькая бабушка в чепце, и небольшой упитанный ребенок в огромном черном кресле, и молодая красивая женщина с обнаженными плечами, с вуалью на лице, и еще какие-то люди в обвислых широкоплечих пиджаках, сидящие на корточках на берегу неизвестного мне предзакатного водоёма. Давно нет никого из них ни в Москве, ни вообще на свете, очень давно, а они все глядят и оживают. А мы всё сидим и сидим, и лампочки в плафонах всё светят и светят. Зачем? Для чего? А затем, наверное, чтобы я мог вновь увидеть галстук в кривых фиолетовых огурцах и две темные запонки, вставленные навсегда в белые, как бумага, манжеты.
Сквозь толщу минувшего матово сияют часики-котлы. На них товарищ мой смотрел часто и, по-моему, без всякой необходимости.
Удачно вписывается в обстановку жилого помещения и солидный по массе, темный деревянный комод, которому лет сто. (Товарищ раз в пять моложе.) По комоду медленно и с достоинством, словно безоговорочно веря себе, плывет куда-то фарфоровый белый лебедь, которому лет шестьдесят. (Товарищу в три раза меньше.) В нижнем ящике комода – компактный металлический предмет в коробке из-под черных кожаных полуботинок. (Полуботинки примерно одного с товарищем возраста.)
Он и сам, наверное, терялся в догадках: что за предмет в коробке? что за вещь? каково ее назначение? И будь Александр Петрович чуть менее правдивым человеком, он наверняка бы мне сообщил чистую правду об этом предмете. Хотя бы разновидность кристально чистой правды, полностью свободной от всякого вымысла. Например, так…
- …А ты вон какой наблюдательный, сынок, - произнес отец, опускаясь на стул с высокой кожаной спинкой. Стул был похож на трон, однако в голосе отца не слышалось царственных ноток. В нем слушались нотки рационального подхода к действительности.
- Я-то украдкой, тихо, неприметно, а ты вот взял и заметил. Вон ты какой зоркий, сынок. Ну и глаз у тебя… Ну и зрение… Наследственная у тебя наблюдательность… Ты за родным отцом все сразу примечаешь, куда он и чего положил…. Не успеет родной отец приехать, так ты уже сразу батю и приметил, откуда он чего привез. А по этой вещице честно я должен сказать тебе: я ее в комод спрятал так, на всякий случай.
- На какой всякий случай, папа?
- Ну, не знаю еще на какой… Жизнь к человеку разными своими сторонами поворачивается. Бывают в этой жизни непредвиденные ситуации, внезапные повороты, люди иногда не очень хорошие на пути попадаются, какие-либо даже скоты или даже ублюдки… Вот я и сказал тебе, что на всякий случай. Ну, как бы с прицелом на то, что может случиться, хотя, конечно, поприятней было бы обойтись.
Было поздно в осенней Москве. На площади куранты отзвенели, дикторы по радио всё сказали. Не то время в городе и в стране, чтобы вдаваться в более подробные объяснения, влезать в самую суть. Отец дружески поцеловал его в одну щеку, не менее дружески потрепал по другой и ушел за полинялую штору, скромно шевелившуюся на деревянных кольцах.
В ту ночь кольца тихо щелкнули друг об друга, и папа за шторой любил маму.
Воспользовавшись тем, что его родители любят друг друга, он полежал немного, с мечтательным наслаждением вслушиваясь в семейные звуки страсти, затем встал с дивана и выдвинул ящик комода.
Вещь оказалась тяжелой, железной и в машинном масле. Он взял ее с той завораживающей осторожностью, с какой впервые в жизни берут подобную вещь в машинном масле. Она тускло заблестела при свете новой луны. Он поднял ее и, прицелившись в ночное светило, тихо сказал:
- Прав папка мой родной! И в самом деле на всякий случай!
Свежие подробности
Не выпало из памяти и всё остальное, о чем я мог бы забыть упомянуть в своих записках, но отчего-то не забыл. Из «всего остального» появляется в осенней своей плащ-палатке Сергей Львович, мой постоянный начальник, всерьез озаботившийся непростой ситуацией, сложившейся на громадном плацдарме под будущее строительство фешенебельного здания, как позже оказалось, с шпилями, колоннами, горельефами, 999-ю этажами и кое-чем внутри из санитарно-технического оборудования. Сергей Львович искренне верил, что сроки завершения геодезической разметки когда-нибудь будут соблюдены, и состоится праздник сдачи объекта в строй, и на праздник, сверкая духовыми трубами и грохоча в барабаны, приедет весь сводный оркестр московского штаба ПВО в полном составе.
Не канул в призрачные воды былого и крупный выразительный нос. Он достался моему товарищу по наследству от его деда, Виктора Александровича, репрессированного в тридцать девятом году строительного инженера, одного из авторов надстройки малоэтажных дореволюционных домов и сочинителя смешной и забавной легенды о духе графа Бенкендорфа в кухонном вытяжном колпаке. За что на Виктора Александровича и донес человек, похожий на дворника. Дедушку арестовали в дождливую непролазную ночь 1939 года. В ту ночь за ним двое одутловатых пришли, а еще один, в очках в золотой оправе и не такой уж одутловатый, в дверях остановился.
Но вершина невероятного прикида моего товарища – не выразительный дедовский нос, а фраерский его набриолиненный пробор, созданный им перед высоким зеркалом впервые лет в четырнадцать. Аккурат на пороге конца подросткового возраста и начала сто тридцать четвертой поллюции на рассвете. По верному счету.
А насколько мастерски и виртуозно Александр Петрович, повзрослев, закусывать научился! Он, надо сказать, закусывать настолько мастерски и виртуозно научился, что и это его мастерство не избавляет меня от обязанности подробно рассказать вам о нем без утайки, и обязательно я поведаю вам о нем во всех тонкостях и деталях. А сейчас одно вам скажу: Александр Петрович запросто мог потягаться в подобном мастерстве с любым из наших мужиков из нашей деревянной каптерки, и отдыхают в этом смысле все наши мужики, а особенно оба наших постоянных плотника: Смирнов и Кузякин. Ведь он любил закусывать не чем-нибудь банальным, вроде запаха рукава телогрейки или моих пельменей из никелированной хозторговской кастрюли (он и ими любил закусить), а чем-то столь же вкусным и мелким, как, поразительно похожие на закуску, мелкие гастрономические шпроты в масле. Бывало, задумает расколоть он меня на очередную бутылку «партийного» с парящим журавлем на этикетке, и я ему совсем уж соберусь в граненый налить, и он тогда во весь рост встанет, и…
- Шпротики! – встав во весь рост и широко открывая рот, восторженно кричал Александр Петрович, намереваясь ими же закусить. – Шпро-ти-ки! – опять кричал он, собираясь в самом ближайшем будущем наколоть пару штук на зубья моей алюминиевой вилки. – Вот это да! Вот тебе и мелкая советская рыбешка в тонкой золотистой шкурке! А как в жестяную баночку аккуратно уложены! Как уложены!.. И ведь сколько их там, ни хера не догадаешься! Ни хера! Пока жизнь ни проживешь, пока банку ножиком не вскроешь. Вот задача! Вот она! На все века! Для всех народов!
И тут я ножиком консервным, острым и блестящим, вскрываю плоскую металлическую банку, стараясь не порезаться об опасные ее, зазубренные края. Мы, сосредоточившись, решаем количественную задачу относительно рыбешек в золотистой шкурке. Затем он, вкусно закусив, откидывается на спинку стула и, руки на груди сложив, то ли меняет тему нашей беседы, то ли оставляет ее без изменений.
Поддатый и закусивший, он – следует особо подчеркнуть – наиболее существенно заострялся на чем-нибудь в силу привычки детства, ставшей привычкой юности. Так, в предыдущую нашу встречу он заострился на влиянии МТС на все народное хозяйство, затем – на возможность поворота рек в сторону Адыгейского моря. Проблема с атомной бомбой оказывалась в центре его внимания во вторник, а заокеанский империализм привлекал его своей оголтелой сущностью в среду. Таким образом, можно смело сказать, что в его привычке было длинно и тщательно продолжать заостряться не на одном и том же, а на самом существенном, добавляя к нему свежие частности и подробности, выуженные им черт знает из каких источников информации. О политике СССР (внешней и внутренней), о том, что «говно это, а не политика», что «холодная война» давно уже в полном разгаре; затем – о романтической любви, о космических путешествиях, о музыке, кинематографе, опять о любви, еще о чем-то менее весомом, но более материальном, вроде советских пельменей в бумажной пачке. И уже на заре, в утренних блеклых сумерках, когда социалистический город просыпался за окном, он заканчивал фразой:
- Самое главное, чтобы гермафродиты к власти не пришли, а уже там как получится!
А я стоял посреди комнаты, и в голове моей кричали всякие голоса, и гудки раздавались. Ничего я не понимал, но отчего-то не требовал, чтобы Александр Петрович мне пояснил, кто такие, обозначенные им, «гермафродиты» и для чего им к власти приходить.
В мире иллюзий
В молчании, не сорвав фуражки с головы, выходит из каптерки бывший полковник, чтобы не в духоте рабочего помещения, а на свежем воздухе выкурить очередную папиросу. Бесшумно улетает в монгольскую степь перепуганный смертник, со свистом собиравшийся врезаться в землю в 2-3 метрах от полковника. Что остается? Темно-зеленое столичное небо, трамваи, соседи, попытки жениться, прохожие, вывески. А где-то там, бог весть где – неведомые, странные существа с загнутыми носами и перепончатыми лапами, пейзажи, окутанные оранжевым туманом, и алые стяги, транспаранты, крикуны, горлопаны, домохозяйки, служащие, рабочие, начальники в добротных фетровых шляпах, алкаши на бульварных скамейках, манекены в витринах, высокие молодые женщины в черных перчатках, еще что-то такое, что товарищ мой то как-нибудь называл, а то никак не называл, напрасно надеясь на мою догадливость.
Называл он и первую декаду марта 1953-его. Тогда, на другой день после смерти И.В. Сталина, он молча и сосредоточенно преодолел узкие родовые пути матери-машинистки. По моим же подсчетам, преодоление узких родовых путей талантливой машинистки имело место не на другой день после смерти И.В. Сталина, а на 5486-й день после контузии полковника Стёгина. На что, конечно же, в личной метрике Александра Петровича прямых указаний не обнаруживалось. Не обнаруживалось прямых указаний и на то, что сам факт его рождения имел место задолго до первого похода в кинотеатр «Центральный», печального инцидента с дворником и драматической ситуации, связанной с шелковой розовой комбинацией, небрежно брошенной на спинку стула.
Быть может, все было не так. Ну, если не все, то многое было не так, и тонкая психическая организация моего товарища дала дополнительный перекос в процессе течения самой жизни, под влиянием предпраздничной обстановки в Москве. Всякое могло быть. Сам помню, с каким упорством грохотали тяжелые танки на парад, с каким навязчивым скрипом двигались туда же красные обширные лозунги на велосипедных колесах. А с каким фанатизмом, с каким надрывом репетировали иллюминацию на фронтоне Центрального телеграфа! Какие человеческие ресурсы брошены были на отладку механизма репетиции! Зажгут и погасят, зажгут и погасят. Люди внизу собрались: все в шапках. Люди снизу кричат: «Завязали гасить! Давай зажигай! Знать, что дальше будем хотим! Чем ГОЭРЛО закончится!». А эти наверху: то зажгут, то погасят, то зажгут, то погасят. Репетиция!
Верно и то, что что-то иное светилось в ночи, и, встав на подоконник и сквозь стекло повнимательней приглядевшись, можно было увидеть сначала кирпичные трубы на крышах, затем летающих грачей, затем электрические провода, а после, если еще внимательней приглядеться, чей-то силуэт на шестом этаже. Это, по-моему, и был силуэт моего умного, хотя и не всегда восторженного друга, который когда-то, быть может, и жил в большой комнате с пятирожковой люстрой на потолке. Там, где жила и работала за полинялой шторой его красивая мама в темном вечернем платье с глубоким декольте и алой гвоздикой в темных, словно южная ночь, волосах. Туда же из длинных и опасных командировок возвращался его отец. Там же и громоздкий комод находился, и белый фарфоровый лебедь куда-то плыл по комоду, и металлическая штука в машинном масле покоилась в нижнем ящике, и фотографии на вертикальной стене изображали давних людей. А на вешалке бездумно висела рыжая зимняя шапка, напоминавшая птичье гнездо: он ненавидел ее, но из подъезда в ней выходил. Он посильнее, чем шапку, уважал свою модную шляпу с загнутыми кверху полями, способную летать по моей комнате. Всё остальное, что появляется до сих пор в моем воображении, неизвестно где находилось, далеко за пределами Москвы и даже Московской области. Быть может, за пределами СССР, составлявшего в эпоху нашей канувшей молодости почти 22 миллиона кв. км.
Здесь я из общей площади страны вновь выделю свое индивидуальное пространство. И окажется мое пространство не слишком крупным, в сравнении с двадцатью двумя миллионами квадратных километров. Маленькая заставленная комната с фикусом на подоконнике, общей площадью двенадцать квадратных метров. Туда я возвращался с одной из городских окраин, облагороженной обликом рассудительного полковника Стёгина, украшенной зеленой шляпой нашей кадровички, озвученной мужиками из нашей бригады и прерывистыми гудками железнодорожного перегона. Две пересадки на Комсомольской площади. Автобус с холодными поручнями. Суконные спины. Знакомая подворотня. Подъезд. Лампочка над подъездом. Коридор. Корыто на стене. Корявый график уборки мест общего пользования. Сосед Бактюхов – этот плоский, как дверь, самоубийца с зеленым чайником. Где-то женщина поет голосом Эдиты Пьехи, но отчего-то по-итальянски. Дядя Петя Сандальев («е...т его в кочегарку»). Судя по всему, я приехал домой, в свою заставленную комнату. Пока еще молодой, но уже усталый, как дурак.
Вскоре, ботинки расшнуровав, я, несмотря на усталость, догадывался, что мой товарищ, если ко мне еще не завалился и дверь не распахнул, то точно намерен завалиться и дверь распахнуть. Светский визит его неизбежен. Лет через двадцать пять он, быть может, и попадет в неприятную авиационную передрягу в безоблачном небе над Средиземном морем, но еще не попал. Попадание будет потом, когда эпохи мимо пронесутся. А сейчас что? А сейчас он войдет, и с еле слышным свистом полетит его шляпа по воздуху, через всю комнату. Он сядет за стол, о чем-то спросит, что-то расскажет. Две темные запонки на рукавах. Часики-котлы. Выразительный нос. Галстук в фиолетовых огурцах. Пиджак «джазовый» с потертым хлястиком. Короче говоря, в моем воображении вновь и вновь появлялся и продолжает появляться мой друг и товарищ, вернувшийся однажды из столичной ночи, чтобы что-то сказать мне и тотчас что-то опровергнуть.
Вижу я и нечто такое, что ни в коем случае не напоминает ни моего товарища, ни мой шкаф. Встаю, подхожу ближе. Нет, совершенно не шкаф! Это даже не фикус на подоконнике. Это мой старый ламповый радиоприемник. Он своим зеленым глазом подмигивает мне. Висит над крышами вогнутая луна, и светятся своими гранями два граненых стакана на столе. Пиджак на спинке стула. Я приезжаю с работы домой усталый, разбитый, а граненые светятся! Опять пиджак мой на спинке стула. Тогда я, еще раз поглядев на все это, решаю для себя: вот ведь как замечательно получается! Вот ведь как! Оказывается, то именно и происходит, чего я раньше не замечал. Оказывается, мир в моей комнате значительно волшебней и таинственней, чем остальные миры и созвездья. И соседи мои ничего не знают о нем! Ничего! А при участии моего товарища – это вообще мир самых невероятных по красоте иллюзий. Самых парадоксальных из всех известных человечеству в ту осень.
Вы, безусловно, помните, где всё это было. Помните? Нет? Вижу, что забыли. Напомню: в Москве всё это было, в бескрайней и могучей Москве. Там, где во всю ширь и высь, под музыку гремящих на ветру флагштоков гуляла советская власть со всеми вытекавшими из нее обычаями и последствиями. И кое-какие иллюзии не походили ни на что. А другие на что-то походили. Как раз они-то и были похожи на то, с чем только иллюзии имеют свое нетипичное сходство. Вот белокурая американская кинозвезда. Не так-то просто встретить ее на улицах тогдашней Москвы и даже нынешней. Но она ведь не просто американская кинозвезда. Она еще и фантастически талантливая и сексуальная женщина. Недаром сотни миллионов человек влюблялись в нее, и среди них – американский президент Джон Фитджеральд Кеннеди, застреленный, как известно, наемным киллером в 1963 году. На почве ревности.
Таким образом, товарищ мой вновь и вновь возвращается в реальную обстановку. И создавали ее я, мои два граненых стакана, две вилки из алюминия, вчерашняя «Правда», расстеленная на столе, бог весть откуда музыка доносившаяся и скудная мебель моя, о которой тоже, наверное, можно что-нибудь в каких-нибудь записках написать.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Заветный стакан
Итак, он старше стал и во многих делах преуспел. Теперь он более вдумчиво и сосредоточенно изучал окружающую обстановку и, видимо, нарвавшись на что-то непознаваемое, приподнимался на мысках и щелкал полосатыми подтяжками, оттягивая их большими пальцами. Пощелкав, он интересовался, какие мысли у меня насчет близкого наступления «ядерной зимы». Я, отвернувшись к окну, молчанием обходил неприятную тему. Тогда он спрашивал меня, постелил ли я на мой бугристый диван, пропахшую девственной белизной и чистотой, простыню.
Выяснив, что я ее, пропахшую, из-за моей постоянной занятости еще не успел из государственной прачечной забрать, он возвращался за стол и спрашивал о том, о чем уже не один раз спрашивал:
- Заначка-то хоть есть у тебя?
- Какая заначка?
- Которая в твоем шкафу оттопыривается.
- Нет, - говорил ему я, - там она давно уже не оттопыривается.
- Опять полнолуние?
- Нет, на сей раз не оно.
- А что же тогда?
- А то, что мы, Александр Петрович, ее с тобой еще в прошлом году, на Первое мая всю выпили.
- На праздник мира и солидарности?
- Да.
- Плохо, - он тяжко вздыхал, – выжрал бы я сейчас еще один стаканчик. Очень что-то портвейнчика стаканчик выжрать захотелось!
Примечательно, что и мужики в нашей душной каптерке весьма способные были люди на всякие такие слова. С аналогичной точностью отзывались они о самых сложных предметах и явлениях, и по сей день составляющих наиболее потрясающий из всех известных человечеству миров. Бывало, накурят полное помещение, вонища страшная, а они сидят и обсуждают баб, водку, китайцев, еду. Полковник входит со двора и принимается кричать: «Вы чего тут сидите и обсуждаете баб, водку, китайцев, еду!» А то еще с каким-то словесным грохотом заострятся на текущей политике, на том, будет ли Третья мировая война и какую важную роль играет «целка» в судьбе человека, то есть бутылка с прозрачной пленкой на заветном стеклянном горле. Больше никто, на моей памяти, не говорил с настолько верным, умным, 100-процентным попаданием в самую суть предметов и явлений. Не считая, естественно, Сергея Львовича, который хорошо и приятно умел о чем-нибудь сказать. Я был уверен, что такая способность у него выработалась в процессе накопления жизненного опыта. При этом чаще и подробней описывал он не технологию и последствия обидной его ночной неудачи с несколько привередливой и капризной Галиной Аркадьевной, а трагические результаты взрывной волны, вызванной ударом об землю японского летающего смертника.
А что Александр Петрович?
Его особенности редки, уникальны, подчас не до конца объяснимы, но в значительной мере реалистичны и, в силу своего реализма, позволяют мне сомневаться не то что в самом себе, а в том, с какой стати взялся я за свои хаотичные воспоминания.
Не отрицаю я и того, что сам по себе мой замысел странный, рискованный. И, наверное, из-за терпких иллюзий юности я не догадывался, что человек, принявшийся однажды за свои воспоминания, неизбежно окажется во власти полного хаоса, наполненного мыслями об одном и том же. Не зря я однажды, проехавшись на городском транспорте через весь город, вошел после работы в свою двенадцатиметровую комнату и, ботинки расшнуровав, принялся припоминать детали и подробности, вытаскивать их из предпраздничной обстановки великой столицы. Не зря я цель себе такую поставил: кое-что вспомнить, кое-что пропустить, а потом обо всем, что пропустил, товарищу рассказать. Я, конечно, жизнь прожил, а всё еще сомневаюсь: а вдруг зря я за такое взялся? Вдруг ничего не получится? Вдруг он слушать меня не захочет? Вдруг дела поважнее найдутся? Вот он сидит у меня и смотрит на шкаф, а я ему говорю: «Взметнутся ввысь все 999 этажей, с горельефами, шпилями, радиорадаром на крыше, лифтами, дубовыми дверями, золотыми шпингалетами, рослыми швейцарами, толстыми бетонными перекрытиями и уникальным сантехническим оборудованием». И он, услышав от меня такое, внезапно преодолеет прокуренную обстановку моей комнаты. Сорвется вниз по ступеням каменной лестницы. Выбежит в город и, размахивая длинными рукавами, полетит вдоль влажных тротуаров нашей юности навстречу грядущей заре частного предпринимательства… А потом по Москве поброжу, на витрины, на мигающую иллюминацию полюбуюсь, кружку пива где-нибудь выпью, рыбешкой мелкой закушу и снова себя на той же мысли ловлю: нет, взялся я совершенно не зря!
А если опять углубиться в особенности не моих, а его личных пристрастий, то вполне допустимо, что он, вообще-то, не всё и не всегда любил с одинаковой силой. Он, как и я, самою жизнь любил, и в этом сомнений нет. Он и женщин любил, и красивую музыку, и вкусно закусить, и белые снега Килиманджаро, и поприличней одеться, и гидродинамику, и архитектонику, и аргентинское танго, и братьев Люмьер, и иностранные языки, и Мэрилин Монро, и марксистско-ленинскую диалектику, и ботинки фабрики «Скороход», и Элвиса Аарона Пресли, и мои мясные пельмени, которые я в кипящую воду высыпал из бумажной пачки. А вот «холодную войну», стоит напомнить, он не слишком жаловал. Не была она ему по нутру, и я в догадках теряюсь, почему это так. Точно помню, что он и к большим государственным песням с опаской относился. Он, вообще-то говоря, ни армейскую стрельбу, ни гремящие звуки не слишком жаловал. Не были они ему по нутру. На психику действовали. Как где услышит свисток пронзительно-милицейский или грохот сапог по асфальту, так тут же вся психика на дыбы.
Одним словом, трудно было ему хоть в чем-нибудь угодить, как ни старайся. Скажу больше: всякому такому незаскорузлому пареньку, как он, угождать всегда очень непросто. Вы уж было совсем, кепчонку с головы сорвав, разлетелись с угодливой улыбкой навстречу ему, а он тут-то и скажет: «Не надо мне от тебя ничего такого! Иди ты, Армяков, в свой двустворчатый шкаф и в нем кому-нибудь угождай!».
Вместе с тем, если что-то где-то с грохотом падало, как, например, он сам однажды со стула всем телом на пол плашмя, или же у соседей за стенкой принималось что-либо отчетливо дребезжать, то и это не представлялось ему цепляющей за душу музыкой. Такой же нежной, но бравурной, как лирические возгласы в исполнении дядя Пети Сандальева: тот в фиолетовой майке без рукавов умело бесчинствовал в коммунальном коридоре, там же бесчинствовала и дядипетина майка. Выкрики, вопли, возгласы. Дядя Петя кричит: «Всех вас е… в кочегарку!» И срывается со стены медный таз, и слышен возглас другого моего соседа, плоского, как дверь, Бактюхова Петра Павловича: «Опять вы свои панталоны здесь поразвесили! Опять я лицом в них попал!» А из-за моей двери – звон граненых стаканов и женский смех, и музыка, музыка, музыка… Ну а поближе к утру… – тишина. И только доносится откуда-то гулкий голос большущего железного репродуктора, установленного на крыше соседнего дома и транслировавшего на всю округу чьи-то словесные констатации, огромные государственные песни и гортанные крики дворников за окном. И, прислушиваясь к ним, товарищ мой страшно изменялся. Я таким изменившим еще не видел его: обвислые щеки, глубокие складки на лбу, мешки под глазами. Обеими руками попытавшись схватиться за воздух, выбегал он на середину комнаты и кричал, что не для того он с таким напряжением в первой декаде марта 1953-го проходил узкие родовые пути матери-машинистки, чтобы подобными возгласами, подобными звуками всю дальнейшую жизнь грузили его. «Идите все в баню!»
Вместе с тем был он человеком очень чистоплотным. Об этом я могу сказать с предельной откровенностью. И мне запомнились его одеколон, пробор набриолиненный, манжеты белые, словно первый снег на карнизе. Хотя и отказывал он себе в общественном помывочном удовольствии. Ну, не обязательно в период нашей юности или осенней полной луны. Он и в другие периоды отказывал себе в том же самом, предпочитая тщательно намыливаться и, напевая «Мы простимся на мосту», плескаться в старинной ванной комнате с медным краном и каплями влаги на потолке. Я и сегодня не сомневаюсь, что не без оснований он утверждал, что в бане воздух слишком густой для вдыхания, и влажные голые мужики шайками гремят. Что может быть скучней и тоскливей? Что может быть глупее и несуразней? Что может быть банальней общественной бани, наполненной шайками и голыми влажными представителями мужской части человечества?
Прозрачный намек
Давно никто не сомневается: сегодняшний мир летит вперед со всё возрастающей скоростью. Годы и люди позади остаются, магазины, бани, конторы, заводы, пельменные, парки, пруды, лебеди, шашлычные, деревья, кустарники, транспорт и кинотеатры нашей юности, гортанные крики в ночи, какие-то стуки в дверь, черно-белые фотографии на стене и скромные, полузабытые романсы: «Мы простимся на мосту…» И в разных концах страны на самых разнообразных мостах всех возможных и невозможных конструкций прощались друг с другом самые замечательные и не самые замечательные люди тех лет.
А какие люди сидели на стульях в очереди на прием к самому знаменитому в нашей центровой округе медицинскому специалисту Ильичу Ивановичу! Спортсмены и дальнобойщики, философы и гитаристы, секретари и журналисты, футурологи и артисты оригинального жанра, начальники среднего звена и токари 6-ого разряда.
Да, возможно, и был тот многолюдный, скудно освещенный этаж внутри того учреждения, какое, можно сказать, по замыслу и конструкции не совсем КВД. Это было еще какое-то государственное лечебно-профилактическое учреждение, похожее чем-то на будущий многоэтажный «Отель разбитых сердец». Но находилось оно по другому адресу, который я вряд ли теперь воспроизведу в моей памяти. Причина понятна. И у меня за плечами – жизнь, годы, судьба. И меня изрядно помотало. Как при такой изматывающей нагрузке штрихи и детали сохранить?
Кстати сказать, товарищ мой, то ли услыхав, то ли на стенке в Москве прочитав популярную трехбуквенную аббревиатуру, тотчас принимался не ее расшифровывать (из-за банальности расшифровки), а прямо намекать на жизнь, на годы, на судьбу… Он к тому времени значительно повзрослел, да и в жизни не слабо поднаторел, и доносилось до меня: «А я тебе, Армяков, указываю на них! Не забывай об них, подручный ты геодезиста!».
И я не забывал. И я никогда не забуду. И я всегда буду помнить. И я навсегда сохраню в памяти, что вроде уже далеко за полночь, обо всем вроде мы с Александром Петровичем перетерли – и о детстве, и о юности, и о нашем с ним будущем, а он всё никак не может угомониться. То встанет, то сядет, то на часы поглядит. То вдруг от пола отожмется. То ляжет на диван и на нем полежит. А то еще неожиданно вскочит и во весь голос закричит о том, что где-то на просторах Польши установлен громадный электротехнический глушитель, чтобы своим монотонным гулом подавлять нашу любимую блюзовую музыку в исполнении Элвиса Аарона Пресли. («Эх, взорвал бы я эту блядскую глушилку к чертям собачьим!».) Вот всё это (по его мнению) упрямо и намекало сначала на жизнь, затем на годы, а затем на судьбу. На их внезапные повороты. Ну, и, конечно, на то, что пошлый я подручный геодезиста в матерчатой кепке. Вставал парнишка долговязый со стула и, пугая соседей, кричал: «Пошляк ты какой! Опять ты свою стеклянную заначку в своем шкафе зажал!». Упорный, честный, начитанный, пронзительный в своих убеждениях человек!
Личный тайник
Еще несколько слов о винной заначке «партийного», наличие которой проверил я однажды осенним утром, за двадцать пять лет до невеселого происшествия в безоблачном небе над Средиземным морем. Проверил и выяснил: на месте заветный стеклянный пузырь. Покоится под нательным бельем. Прекрасная тема моих воспоминаний!
И для Александра Петровича этот покойный стеклянный пузырь тоже был чрезвычайно живой, почти неисчерпаемой темой. Что только ни говорил он мне о нем, живо представляя его наличие в кромешной тьме моего гардероба! Не считая всего прочего тематического наполнения наших с ним кристально честных, дружеских дискуссий. К коим следует отнести всё то же самое или не всё то же самое, а в чем-то сходное, напоминающее… намекающее на всё то же самое. На столичные грезы мои и на скрип диванных пружин. На гудки за лесом, табачный дым в каптерке, на возгласы соседей за стеной и реальные попытки жениться, которые кажутся мне теперь значительно более приземленными, чем, появившийся со стороны восхода или заката, летающий смертельный камикадзе. Реальны и Сергей Львович, пострадавший от взрыва, и наша приземистая кадровичка в зеленой шляпе, и куда-то пропавший плотницкий гвоздодер, и не в меру капризная Галина Аркадьевна с ее настойчивыми требованиями покупки розовой комбинации неизвестно в какой лавке с напольными часами и с малиновым звоном. Реальны и не всегда объяснимые выходки моего товарища, еще в детстве услыхавшего странные завывания в кухонном вытяжном колпаке, а в подростковом возрасте застигнутого врасплох каким-то крупным военным: усатым, в погонах и с пистолетом в правой руке. И, видимо, в том же списке – внезапный приступ дисбактериоза, о котором он мне рассказал много позже, в порыве полного откровения. Был и тот, пока еще детский, но повышенный интерес к учительнице биологии, про которую трудно сказать, как звали ее и почему вегетативные способы размножения занимали ее лишь по долгу службы, а не на самом деле.
Норма Джин Бейкер. Я уже говорил, что проживала Норма на той стороне Атлантики, там же, где и Бейкер. До нее были тысячи километров пути по океану или по воздуху. Встретить ее на осенних улицах Москвы являлось делом не столь уж простым. Другое дело – кинематограф. На экране она, пропущенная сквозь мрачные катакомбы советской цензуры, появлялась во всем величии своего таланта. И Тыквин, заняв у меня копеек 20, а то и 30, десятки раз сидел в разреженной тьме кинозала и глаз не мог отвести от пухлых губ, высокой груди, нижнего белья и захватывающих приключений всемирной блондинки.
Естественно, он догадывался, что фамилия совершенно иной женщины может быть любой, но не такой уж всемирной. Суть не в фамилии, а в нежности чувств и скромности желаний. Предположим, фамилия этой женщины Веревкина, и она – не такая уж блондинка, а нижнее белье на ней не такое уж шелковое, как на Норме Джин. Ну и что? Главное, что она садится каждое утро в трамвай, одетая в оранжевое пальто подольского производства. Она – член профсоюза, и видели ее вчера в стеклянной парикмахерской, в восемь утра по Москве приветливо распахнувшей двери на углу бывшей Пушкинской улицы и Страстного бульвара. Время от времени проходит она и мимо широкой витрины, оживленной двумя манекенами в зимних шапках, и во всем своем «оранжевом великолепии» способна затеряться в толпе мужчин, женщин, детей. Но, пожалуй, труднее всего обнаружить ее в районе влажной брусчатки площади имени выдающегося советского летчика-испытателя Валерия Чкалова или в пельменной на углу. Тогда как Большой Каменный мост она с авоськой, полной провианта, способна пересечь, и в районе осеннего Бульварного кольца приветливо способна она помахать свободной рукой другу моему и товарищу… И немедленно после первой их мимолетной встречи готов был Александр Петрович у меня на пружинном диване затеять с ней любовную игру, вступить с ней в такие отношения, в какие ни с кем еще никогда не вступал, хотя мечтал об этом всюду: и на холодных улицах Москвы, и на громоздкой кафедре ВПШа, и в промежутках между двумя гранеными.
А что до меня, то я лишь смутно представлял, что такое громоздкая кафедра ВПШа, на кой черт нужна и для чего на железном трамвае ездит туда мой товарищ. Тем более что никогда и ничего я от товарища не зажимал: ни своего дивана, ни бутылки «партийного», ни 20 коп. на шершавый билет в кино, ни гибкой фамилии женщины во всем ее «оранжевом» великолепии. Я проще был и наивней в те давние годы мои. Я к «У летчикам» к душным сходил и в «У летчиках» в душных купил. Народу, помню, набилось! А витрины как запотели! Как грустно были размыты в туманных стеклах уличные огни!
Из гастронома я вернулся в свою комнату, не обремененный хотя бы намеком на какие-либо записки. Какая-то приземистая кадровичка в зеленой безобразной шляпе, какой-то бывший бронетанковый полковник в фуражке без звезды. Были две пересадки на Комсомольской площади; был пустой и длинный бульвар. Что об этом писать? Для чего? Не скрою: мерещились в осенней Москве кое-какие будущие мои воспоминания, вроде «волшебного фонаря», соседа плоского Бактюхова или какого-нибудь особенного буйства в колпаке кухонной вытяжки. Однако и они совершенно еще находились в тумане, скрывались в гулких подворотнях Центра и не вписывались в банальное течение того давнего вечера. Стучал холодный дождик по карнизу, никакой луны из-за низкой облачности. Пельмешек в кастрюльке сварив, я вилочку алюминиевую приготовил, граненый стаканчик на расстеленную газетку поставил (на слово «Вперед!») и собирался тотчас откупорить. Но не откупорил. Оглянувшись на шкаф, я решительно встал и чуть менее решительно спрятал под майкой и нательными трусами стеклянную бутылку вновь приобретенного советского «партийного» с парящим журавлем на этикетке. Мне, признаться, жаль было прятать, ну да ладно, откупорю в другой раз. Я подумал, что мне еще не раз предстоит поставить эту бутылку на стол. Я обязательно добьюсь того, чтобы выставить ее при наступлении какого-нибудь не очередного, а по-настоящему праздничного случая. И случай представился – потом, через годы. Был этот случай еще более праздничный. Еще более потрясающий. Да, значительно был он щедрее, чем в былые годы, обвитый цветными бумажными лентами, подсвеченный снизу и сверху, и сбоку. И максимально торжественный. Озвученный шикарным гимном в честь «Отеля разбитых сердец». Это был великолепный случай. И очень, очень праздничный. Он был чудесней всего, что удавалось мне вообразить в канувшую эпоху отечественного тоталитаризма.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Удар головой
Не помню, в разреженной тьме какого кинозала поскрипывал деревянным стулом мой приятель, на каком мосту он стоял, куда он на несколько дней снова пропал. Помню, что в окружающем мире и в прилегающих к нему районах города, включая наш двор в самом центре Москвы, была вечерняя осенняя пора. Аналогичная пора была и в комнате моей на третьем этаже пятиэтажного дома обычной архитектуры, созданного в середине тридцатых годов прошлого века. Молчал телефон на столе. Зато не молчала квартира. Она за дверью жила своей жизнью, гремела чем-то, и пела женщина, моя соседка, голосом Эдиты Пьехи, но отчего-то по-итальянски. Из прочих звуков помню скрип двери и чье-то шарканье в сторону кухни. И ничего я больше не помню. Кроме того, что сидел за столом и при свете электрической лампочки в который раз штудировал не эти хаотичные записки, а, видимо, Устав ВЛКСМ, пытаясь запомнить даты выдачи советских орденов громадной и давно уже канувшей молодежной организации. Так и не запомнив ни одной даты выдачи, я встал и, разминаясь, походил по комнате; затем диван мой бугристый и желтой тканью обитый принял меня с робким скрипом, и все померкло. Однако просветлело вскоре, и я увидел, что бегу слишком медленно, высоко задирая колени, через всю Красную Площадь, одну из самых красивейших площадей в мире, а не только в Москве. Идет снег, белый и крупный. Стало быть, уже зима, хотя только что осень была. И вот бегу я, а в это время на трибуну архитектурно гениального мавзолея поднимаются все бывшие и будущие члены правительства, живые и не очень. Не стану их перечислять, их знает каждый. Скажу одно: толпа поднимавшихся была молчаливая, все в дорогих зимних шапках. Как я их всех запомнил, не поддается никакому разумению. Короче говоря, бегу я, и ноги мои оставляют глубокие следы в белом снегу, которые тут же водой наполняются. В это время со стороны Исторического музея втекает в площадь двумя ровными, как по линейке, рядами сводный оркестр: глухой и страшный, одни военные с трубами. И растекается по площади и, растекаясь, вот-вот задавит меня, хотя я все так же медленно стараюсь от него убежать... И тут я падаю, куда-то лечу, опять падаю и стукаюсь головой сперва об Красную Площадь, а после об стол, и слышу, что звонит телефон...
Звонки друга
Да, это был он. Был бы не он, так я бы трубку вообще не взял. Мне интересней было б носки свои снять и на диване устроиться, чтобы утром встать и со свежим настроением пару-тройку раз растянуть резиновый эспандер на заре. Для чего трубку брать да еще глубокой ночью, если это не он?
Но это был он.
Оригинальный и крайне противоречивый. Не во всем предсказуемый.
Я уже говорил, что в детстве, сидя на табуретке и болтая в воздухе ногами, он, не умея еще правильно отличать троллейбус от хлеборезки, с воодушевлением прослушал всю речь Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС. А несколько позже он с покатой крыши бомбоубежища плюнул в дворника, известного в нашем дворе человеконенавистника, в результате чего дворник к вечеру в комнатке у себя совсем занемог. А в юности, размахивая длинными рукавами, он умело совершал свои великолепные «променады» среди людей и машин. Он, напомню, был страстный поклонник заграничного американского кинематографа, отъявленный фантазер, отпетый студент с оттопыренными ушами. Человек с трудным характером, но смелый и отзывчивый, он превосходно умел позвонить мне во втором часу ночи.
Что говорил он мне по телефону? Какие слова его запомнились мне лучше, а какие хуже?
Лишь на первый взгляд почти любое его сообщение могло показаться глупостью и совершенно не отнестись к часам и минутам нашего совместного отдыха в столичной непролазной ночи. Настолько сложной и огромной, что перед сном можно было дотронуться голыми пятками до холодного пола и сказать: «весь мир – мое представление». Спать, правда, мы долго не ложились. Бывало, засидимся до утренних позывных, когда под эти мелодичные позывные просыпалась трудовая социалистическая Москва. Теперь Москва тоже просыпается, но как-то не так. Теперь из плотных объятий Морфея с грохотом, музыкой и гудками вырывается Москва трудовая капиталистическая, и много кто утверждает, что весь мир – это и есть его представление. И мне не совсем понятно, зачем такое утверждать. Всякому нормальному человеку и без того ясно, что быть такого не может. Мир слишком велик. Он слишком многогранен, чтобы укладываться в чьё-то частное представление о нем. Не стоит излишне тупить в этом смысле.
Впрочем, и в то безвозвратно ушедшее время я не всегда и не полностью разделял разнообразные устремления моего товарища и друга. Иной раз вообще не видел я никаких устремлений. Меня можно понять. Я очень много работал. Я очень сильно уставал. Я на себе ощущал тяжкую давку в транспорте. Я видел лозунги, советскую власть, манекены в витринах, дым в каптерке, Сергея Львовича, приземистую кадровичку, темневшее небо над Ярославским перегоном и на фоне темневшего неба – крупный, выразительный нос моего товарища. А если удавалось приглядеться, то видел я не совсем то же самое. Нет, то же самое я тоже видел; а потом слышал чьи-то шаги. Шаги приближались, и, словно заранее, при свете мерцавших огней видел я черные запонки на белоснежных манжетах и широкий оранжевый галстук в кривых фиолетовых огурцах. Тут где-то кто-то принимался петь женским голосом, и плоский, как дверь, Бактюхов выходил из двери и по длинному коридору куда-то шел с зеленым чайником в правой руке. Продолговатая электрическая лампочка медленно потухала над чьей-то головой, и угасавшие отблески финансового благополучия тревожили меня. Потом, уже среди ночи, большая луна в окне моей комнаты, и – телефонный звонок. Он мне звонил и говорил, что опять денег нет, а вчера были.
- Куда же подевались, Александр Петрович?
- Ты сам знаешь, куда.
- Так это я же ведь почти всю ночь напролет сновал по сонной квартире и у соседей бабки занимал.
- Ты вот у соседей бабок назанимал, а деньги все равно куда-то подевались.
Так что сегодня, с позиций прожитой жизни, констатирую, что он мне по телефону (и не по телефону) подробно о многом мог рассказать. Он мне и американское кино представлял, то самое, производства «Метро Голдвин Мейер» и с первого кадра до последнего заполненное гангстерами, музыкальными инструментами, нежностью чувств, подпольной выпивкой, стрельбой, переодетыми актерами. Мог он спросить, не потерял ли я свой ботинок в грязи. На что я, в очередной раз преодолев свое обидное молчание, отвечал:
- Я-то вот ботинок не потерял, а вот ты…
Однажды он мне позвонил, и в голосе его я ощутил победные реляции. Я не ошибся в своих ощущениях, хотя поначалу мало что понял в описанной им ситуации. Потом что-то стало вроде проясняться, приобретать очертания, свою физиологию и наконец из его сообщения я уловил, что эрекция на заре у него всё мощнее, всё настырнее, и это, по его мнению, способно повлиять на судьбу человечества. У меня тоже с эрекцией с ранней юности вроде бы ничего, и я с ранней юности переживаю за судьбу человечества, поэтому я собирался сразу поверить ему. Но отчего-то не поверил.
Два дня он мне не звонил.
На третий день… «Ба! Ты ли это, Александр Петрович!».
Дверь моя распахнулась, и он в вечерних сумерках у меня в комнате появился во всем парадном, будто вовсе не в кино, а в оперу собрался.
Медленно и торжественно полетела его шляпа через всю комнату. Достигнув крючка, она на нем успокоилась, и Александр Петрович, поправив узел на галстуке, шагнул в комнату. Закурил он мою явскую «Яву» весьма многозначительно и, посидев минуту с загадочным выражением, сказал, что первая могучая разрядка состоялась.
- Ну и как?
- Гениально!
По его словам, обильный выброс семенной жидкости, безмолвно потрясший столицу, произошел на рассвете, когда просыпалась трудовая социалистическая Москва. Тогда-то, впервые в жизни, и явилась ему во сне крупная красивая женщина в оранжевом пальто с чёрными пуговицами. И тут же что-то знакомое в воображении моем промелькнуло: два манекена, какой-то автобус, черная перчатка на тонкой руке, губы чувственные и шляпа зеленая… Сердце мое учащенно забилось. Я на стуле приподнялся и тихо спросил:
- Опять американская кинозвезда?
- Нет! Ну что ты! Это – не американская кинозвезда!
- А кто?
- Ну, кто, кто… Это – Веревкина.
- Та самая?
- Да, та самая.
- Член профсоюза?
- Да.
- Какого профсоюза?
- Да мало ли какого. Самое главное ведь не это. Самое главное то, что в оранжевом пальто подольского производства. С черными пуговицами.
(До сих пор сижу в своей комнате и стараюсь понять, как ухитряются люди во сне определять не только фамилию, профсоюз, а еще и место пошива пальто.)
Одним словом, ничего такого, что лишь на первый взгляд казалось глупостью и совершенно не относилось к часам и минутам нашего совместного отдыха, когда он прямо указывал на основные правила нанесения визитов, на сексуальный скрип пружин моего дивана, на то, что «Букет Абхазии» дает всходы на влажной брусчатке той площади, где чьи-то до зубов вооруженные тени бродят во глубине подворотен или стоят под незажженными фонарями. На назначение человека в бане шайками греметь. На то, что это ловчее всего получается в период московского полнолуния: днем и других дел полно. Важно, чтобы баня не закрылась и шайки все не растащили.
Другие звонки
Мог ли мне позвонить еще кто-нибудь, помимо моего лучшего друга и проникновенного товарища? В тогдашней Москве – восемь миллионов человек. Кто-нибудь обязательно позвонит. Главное, чтобы не все сразу.
Часть этих восьми миллионов проживала в нашем дворе. Значительно большая часть в нашем дворе не проживала.
Насчет проживавших.
Это были разнообразные люди: толстые и тонкие, маленькие и большие, среднего роста и выше среднего роста; мужчины и женщины. Это были люди, служившие советскому государству, трудившиеся на заводах и фабриках, ходившие на работу в конторы и министерства, ловившие кайф в стеклянных пельменных и прогорклых шашлычных, давившиеся в очередях за невкусным продовольствием и певшие по праздникам большие задушевные песни с красивыми печальными словами. У некоторых из них была телефонная связь с городом или с некоторым странами, находившимися за государственной границей СССР. Телефонизированных людей было не очень много. Все остальные стояли в очереди на установку телефона лет по двадцать. Они так упорно мечтали, чтобы в их комнатах появился черный и тяжелый телефонный аппарат, звонивший честно и восторженно! Хотя желательно не среди ночи. Многие по-прежнему очень боялись ночных звонков.
Не все дети этих людей входили в число моих закадычных друзей и приятелей, но кто-то – наверняка.
Вон там, почти что сразу над угольной котельной. Там, где солнечный свет был редкостью, словно бескостная говядина в ближайшем к нашему дому гастрономе «У летчиков». Там жил один чистенький белобрысый мальчик. Другой мальчик – такой же чистенький, но не такой белобрысый – жил не сразу над котельной, а значительно выше. К этому не совсем белобрысому я еще до знакомства с Сашей Тыквиным ходил домой на просмотр телепередач. В их комнате, разделенной на две части книжным шкафом, стоял на тумбочке громоздкий ламповый телевизионный приемник «КВН», модернизированный образец 1951 года выпуска. Замерев, мы с мальчиком сидели на стульях, не отрывая глаз от выпуклой глицериновой линзы, за которой разворачивалось не менее выпуклое действие «Тайны двух океанов». А после играли в эту тайну. Он из-за шкафа громко шептал: «Я - семнадцатый! Я - семнадцатый!» Я делал вид, что не слышу. Опять он шептал: «Я – семнадцатый! Я – семнадцатый!». Тогда я тоже громко шептал: «А я – восемнадцатый! Я – восемнадцатый! Как слышите, Океан?».
С другим мальчиком из нашего дома мы ранним темным холодным ноябрьским утром выходили на улицу и в грохоте праздничных танков, направлявшихся к Красной Площади, что-то кричали. День постепенно прояснялся, и нам приветливо махали розовощекие танкисты, сидевшие на вершинах танковых башен. И транспаранты бились на ветру. Мы знали, что вскоре праздничный день окончательно вступит в свои права. Повсюду начнут торговать воздушными шарами, сладкими петухами на палках, пищалками «уйди-уйди», фруктовой водой и чем-то плохо объяснимым, что тоже являлось составной частью тех праздничных дней.
А о себе и моем друге еще раз скажу, что детство наше быстро пронеслось. На том основании, что слишком быстро проносится эта таинственная и незабываемая человеческая пора. И я очень обрадовался, когда во втором часу ночи опять услышал его голос в телефонной трубке…
Разные слухи
Итак, последние дни октября в осенней Москве того же года. Они приятны сердцу моему, словно живые появления товарища в дверном проеме. Вспоминать их очень приятно. И поразительно приятно украшать хаотичные воспоминания мелкими неурядицами и кое-какими победами на любовной почве, утренними путешествиями через весь город и вечерними возвращениями в комнату на третьем этаже. Я слышу и теперь призывный скрип диванных пружин. Доносятся издалека запах жареной наваги, шарканье десятков ног по коридору, звонки в дверь, чье-то женское пение и отголоски бесчисленных телефонных разговоров. Иногда приходил управдом, мудак полный и окончательный, почище профессора Дроцкого, заведующего кафедрой в той каменной огромной ВПШа, где учился Тыквин, но и управдом, этот полный мудак, приятен сердцу моему, словно еще один персонаж далекой моей юности. И лампочку накаливания мою приятно мне вспоминать. Комната моя при свете лампочки накаливания казалась веселее, милее, квадратней и чище, несмотря на постоянную ее неприбранность.
Приятен мне тот же октябрь того же года не только разноцветьем опавшей листвы, мерцанием вечерних огней, завываниями ветра в подворотне, ожиданием всенародного праздника, давно уже обещанными премиальными и теми удивительными, насыщенными часами, которые проходили в беседах с моим интеллектуальным товарищем, а еще и потому, что доходили до меня разные слухи, которые я обдумывал по дороге на службу, находившуюся на окраине огромного города, неподалеку от Конечного круга. Там я, мой непосредственный начальник Стёгин Сергей Львович, две наши рыжие строительные собаки по прозвищу Брыкин и Дыкин, два наших постоянных плотника Смирнов и Кузякин, наша приземистая кадровичка Наталья Николаевна Голубятникова из нашего не до конца спроектированного отдела кадров, еще несколько мужиков из нашей бригады почти круглосуточно были заняты одним и тем же делом. Достаточно привести здесь полуистлевшие носки на изогнутой железной трубе, и вы всё поймете.
Дополню это свое не слишком восторженное информационное сообщение еще и тем, что сроки окончания геодезической разметки продолжали витать в холодном воздухе Москвы. То тут, то там слышались еще какие-то отголоски, шептания, возгласы. В самых разных местах говорили, что, согласно официальному постановлению, лучше бы всю разметку закончить к праздникам всенародным, а если уж никак не получится, то и х.. бы с ней – можно и к декабрю.
Случай с профессором
Аккурат в те погожие, но последние октябрьские дни, устланные многоцветной опавшей листвой и овеянные ожиданием праздников, Александра Петровича в очередной раз с треском поперли с кафедры основ марксизма-ленинизма. За что? Я точно не скажу, за что. Возможно, что просто так. Взяли и решили попереть. Уши слишком оттопыренные, шапка не та, биография… А возможно, всего лишь за то, что, бесшумно надувая щеки, с моста в реку плевал. Есть и такое соображение: из-за репрессированного в 1939 году дедушки, Тыквина Виктора Александровича. А может быть, еще и за то, что у заведующего кафедрой, пожилого и потрясающе близорукого профессора Дроцкого, Тыквин, обнаружив явную и чрезмерную наглость, поинтересовался, что важнее для человека – духовное или физическое.
- Это, профессор, и при советской власти не до конца очевидно. Вы с этим согласны, профессор?
На то она и власть, чтобы предпринимать не до конца очевидное, чему есть доказательства многочисленные, профессионально прописанные всеми, кто за них брался. В то же время и при советской власти очевидным было не всё, а только лишь самое главное, самое основное, овеянное неформальной славой прошлого. Я утверждаю это. Ради этого готов я на карту поставить всю цепь дальнейших событий, все свои сумбурные воспоминания.
Весьма вероятно и то, что мой друг подходил к профессору раз пять на дню и всякий раз с одним и тем же вопросом.
На шестой раз профессор лишь смутно из-за близорукости увидел Тыквина. Тот, показалось профессору, в широкополой шляпе с загнутыми кверху полями и расстегнутом пальто, широко разведя руки в серых нитяных перчатках, неумолимо надвигался с западного конца коридора.
Профессор сделался белый, как кафедральная стена. Казалось, что побелели лацканы темного его пиджака с залоснившимися на локтях рукавами.
Обеими руками попробовав отгородиться, маститый ученый сдавленно вскричал:
- Вон! Не подходите ко мне! Во-о-оо-он!
А тот все равно надвигался…
- Вооон! Нет! Не подходите ко мне! Воо-ооон!
А тот все равно надвигался…
- Вооооооннн!
А тот шел и шел на профессора, словно проспиртованный копелевец из гениальной советской кинокартины «Чапаев».
Чем дело кончилось, я не знаю. Знаю, что уже глубокая ночь была, и Москва затихала, и товарищ мой, показывая мне «коридорный случай», талантливо входил в роль не проспиртованного копелевца, а кафедрального профессора в черном костюме, купленном в ЦУМе тотчас после капитуляции Японии и, следовательно, сразу после полного окончания Второй мировой войны.
Вскоре он стал попадаться профессору на глаза постоянно. Иной раз из-за угла появится, а то за дверью в уборной спрячется, а после возьмет и появится в уборной из-за двери. И опять в той же шляпе. И в том же пальто.
Своими появлениями он довел пожилого ученого почти до состояния аффекта, а всё дело – почти до абсурда. Вдобавок после своего очередного появления он надвинул шляпу на глаза и попытался профессора обнять. Тот увернулся. Тогда он еще раз попытался обнять профессора. Тот опять увернулся. Тогда он с попытками завязал и просто сказал то, что как-то раз удачно сформулировать ухитрился во время одной из наших ночных посиделок: Системе наплевать на человека. И уточнил, что это значит. Это значит, что для Системы, которой «наплевать на человека», важнее всего наращивать стратегические ядерные вооружения, а не вопрос о том, что надевать человеку на голову, а что не надевать, когда уже снег на улице, и в подворотне по вечерам «ветер воет, как невидимый прохожий от тоски». Профессор, схватившись рукой за сердце, посреди коридора замер с открытым ртом. А Тыквин еще подбавил драматизма. Он басом и надменно сказал, что самый цвет нации во все эпохи с песнями и свистом отважно бросался на скорейшее решение проблемы изменения формаций. Под конец он нагнулся к профессору и у него, потерявшего дар речи окончательно, осведомился:
- А что это дало? А? Что это дало, профессор?
Серьезные причины
К той же осенней эпохе относится мое глубокое убеждение, что сроки завершения геодезической разметки громадной площадки на окраине города так и могут остаться непроясненными до конца. Указывало на это далеко не всё, что происходило в тогдашней Москве. Много подлинного и выдающегося тоже происходило, и я бы не стал всю тогдашнюю Москву оценивать по запыленному окороку в витрине магазина «Молоко и мясо» или по давке в городском транспорте. А из того, что указывало на некоторую непроясненность, отмечу прежде всего двухнедельное пьянство обоих наших плотников, Смирнова и Кузякина. При том что все остальные у нас тоже пили, а с двумя плотниками в важнейшем из искусств сравняться не могли. Вроде вот-вот догонят и в искусстве сравняются, а те возьмут и так искусно насандалятся, что всех остальных снова обскачут. Кроме того, обидная неопределенность с денежными премиальными, гудки за лесом в районе Ярославского перегона и неожиданная пропажа длинного металлического гвоздодера, принадлежавшего, опять-таки, Смирнову и Кузякину. Ярким и весьма примечательным было и поведение моего начальника. Он (взрослый, опытный человек!) стал всё чаще входить в каптерку будто бы внезапно и с таким выражением, словно уверен был, что застанет меня в обнимку с нашей приземистой кадровичкой Голубятниковой, женщиной лет тридцати, у которой от двух мужей остались четыре обеденные тарелки, два стула, один электрический утюг и несколько быстроногих вихрастых мальчиков на полном иждивении. С ней он меня, понятно, не заставал. Зато он всякий раз обнаруживал, что я лежу на промасленных телогрейках с тем выражением, с каким лежат на казенной одежде в большинстве своем только романтики в ожидании чего-то небесного, вроде восхода Луны… Увидев полковника, я с романтизмом скоренько завязывал и либо ничего делать не начинал, либо дышать начинал так, будто только что в изнеможении упал, влетев, запыхавшись, с оптической астролябией наперевес в служебное помещение. С техническим устройством Данжона, способным схватывать звезду.
Загадочный инструмент
В те же дни товарищ мой, должно быть, устав от общения с профессором, куда-то стал отлучаться. Я не спрашивал, куда, догадываясь, что не в сторону безоблачного неба над Средиземным морем, ибо вроде для полной катастрофы рановато еще, и, скорее всего, не в область неведомых миров и созвездий. Еще куда-то.
Два дня я его не видел нигде. А потом увидел в окно. С какой неподдельной уверенностью он в рыжей лохматой шапке вышел из подъезда и тут же ушел в подъезд практически с той же уверенностью!
Подстелив вчерашнюю «Правду», я влез на подоконник и в форточку собирался крикнуть ему. И отчего-то не крикнул. А вечером на шестом этаже электрический свет зажегся, и я, скорее, не увидел, а представил знакомый силуэт в комнате с темным комодом, полинялой шторой на деревянных кольцах и черно-белыми фотографиями на вертикальной стене. Мне показалось, что он расхаживает по комнате и рассуждает о чем-то. О мигающих лампочках на выдающемся телеграфном фронтоне? О наличии «трех одутловатых санитаров» на 4-ом этаже лечебно-профилактического учреждения, которое не совсем КВД? Или по поводу «лебедя, который плывет по комоду»? Не знаю… А возможно, что ходил он по комнате, размахивая руками и феерически рассуждая о появлении рослой Веревкиной в ближайшей округе. Она – член профсоюза? А пальто на ней подольского производства?
Приблизительно через сутки дверь моя распахнулась. Он шагнул в комнату и довольно-таки ловко закинул свою шляпу на крючок. Проследив за полетом шляпы, я перевел взгляд на Александра Петровича. И по его выражению понял, что он сейчас что-нибудь скажет, и вновь я удивлюсь тому, что он сказал. Возможно, это будет весьма остроумное высказывание то ли по поводу феерического таланта бывшей брюнетки Нормы Джин Бейкер, то ли по поводу «холодной войны». А возможно, что затронет он атомную бомбу, советский профсоюз или снова при мне обрушится на устои государства. А если и не обрушится, то обязательно что-нибудь мне сообщит по поводу совершенно иных вещей, никакой Нормы Джин не касающихся, как, впрочем, и белокурой Мэрилин.
Так и случилось. Прозвучал приятный рассказ в его исполнении. Но не о тесном контакте с профессором Дроцким и не расширенное повествование про столь нелюбимый Александром Петровичем отечественный тоталитаризм. Прозвучало довольно-таки необычное, весьма образное сообщение про какой-то длинный металлический инструмент, который подключают к городской электросети. Фантазия его в дни нашей молодости была безгранична, и я достаточно долго относил описанный инструмент к чему-то вымышленному и в будничной жизни неприменимому.
Между тем Александр Петрович, тщательно описав «нечто длинное, металлическое», но вряд ли на практике применимое, опять куда-то отлучился, и утром я не обнаружил его на потертой обивке своего дивана. Слухов о новом месте его пребывания не просачивалось никаких. Несколько театральная мама его с глубоким декольте и алой гвоздикой в волосах, занятая своей машинописной работой за полинялой шторой, к телефону не подходила, и я по дороге на службу пришел к выводу, что он окончательно затерялся на людных просторах Москвы.
Но через несколько дней следующий по счету осенний вечер в Москве наступил, и он пришел ко мне. Вид был усталый, пальто мятое, ботинки в грязи, и не увидел я отблесков фонарей на полях его заманчивой шляпы. Он не стал подробно рассказывать, какая нелегкая и по каким тротуарам носила его. Не стал он и про свою эрекцию новые подробности сообщать. Он сел на стул и принялся объяснять психофизические свойства продолговатого электротехнического инструмента, как-то странно связанного, с одной стороны, с тоталитаризмом, а с другой, с постановкой человека в коленно-локтевое положение. Я сидел и смотрел на него. И чем точнее он описывал положение человека на коленях и локтях и разными голосами воспроизводил крики его, стоны и возгласы, тем яснее представлялось, что все связи вымышлены, и он опять преувеличивает. К тому же он периодически вскакивал и, разбрасывая руки в стороны, во весь голос выкрикивал: «Какое счастье, что не мне!».
Не скрою, что слушать его мне было интересно, но не слишком. Во-первых, время позднее. Во-вторых, обязанность ранним утром переться через весь просыпающийся город. А в-третьих, были у нас в бригаде двое: один Смирнов, другой Кузякин, и оба – плотники. Помимо всех остальных мужиков, имевших свойство зверски накуривать в деревянной каптерке. Так вот оба этих плотника постоянно закусывали черным хлебом с солью и, закусив, рассуждали о чем-то похожем, вынуждая Сергея Львовича их резко одергивать: «Да хватит, Смирнов! Да хватит, Кузякин! Вот вы козлы какие! А? Чего еще за дрянь такая! Да хватит вам хрень-то такую про гвоздодер-то переть! Не для того предназначен!».
Бывший полковник (по объективным причинам) войти в мою комнату не мог и, следовательно, своим окриком дела поправить тоже не мог. Должно быть, поэтому Александр Петрович вскоре посильнее разошелся. После своего удивительного рассказа про далекие от меня, но, вероятно, крайне неприятные манипуляции с инструментом он принялся доказывать, что если какой человек в душе нежен, брезглив, мечтателен, пуглив и всем нутром своим не хочет грубого с ним обращения, то и не надо ставить его в коленно-локтевое положение. Я ни таких людей, ни такого положения ни в городе, ни на нашем огромном пустыре никогда не видел. Поэтому попросил показать. Он мне ни таких людей, ни такого их положения не показал и даже не пояснил, откуда они могут взяться. Тут уже я, несмотря на поздний час, напряг свою фантазию, а он, стоя посреди комнаты и сложив руки на груди, пристально следил за мной: хватит ли у меня воображения, чтобы в деталях представить? Детальное представление вызвало у меня значительные затруднения, и товарищ мой, вместо того чтобы помочь мне с ними справиться, принялся расхаживать по комнате, размахивать руками и внятно кричать: «Какое счастье, что не мне!». А в дверь уже соседи принялись кулаками стучать. И вот стучат соседи в дверь, а Тыквин еще громче и внятней кричит: «Какое счастье, что не мне!». А соседи сильнее стучат, а Тыквин сильнее кричит: «Какое счастье! Какое счастье, что в жопу вставляют не мне!». И тут всё сливается, всё грохочет, всё кричит, и он, прикрыв правый глаз, целится указательным пальцем в мою электрическую лампочку. И я ловлю себя на мысли, что если товарищ в лампочку попадет, то комната моя окажется во власти мельчайших стеклянных осколков.
Обидное молчание
В моих записках постоянно что-то не так, поэтому он, скорее всего, в лампочку не попал. А вот то, что он вернулся откуда-то и находились мы с ним не в одинаковых позах в моей комнате, – вне сомнений. Где нам еще-то было находиться?
Кричал ли он? Кричал. И про счастье, и про что-то «электротехническое». А также про то, что «хорошо, что не ему вставляют это нечто длинное, твердое и электротехническое». И соседи примерно в третьем часу ночи в дверь кулаками барабанили. И до самых утренних позывных что-то еще тревожило его почти с той же силой, с какой, наверное, тревожило не его одного. Быть может, смутные отголоски будущего, а возможно, что и город за окном. Гигантская Москва, никем не понятая до сих пор. Острая, желанная, но туманная возможность понять гигантскую Москву.
Помимо Москвы, ее вечерних фонарей, транспорта, снующих горожан и ледяных сквозняков в подворотнях, всерьез занимало товарища моего величайшее богатство всего окружающего мира, его непознаваемость и масштаб. И, как часть этой непознаваемости, увлекала его вероятность наличия заначки «партийного» у меня в шкафу, в виде непочатой бутылки из темного промышленного стекла. Он ( при моем содействии) не был до конца уверен, что она в нем есть и в качестве стеклянного пузыря покоится под мои нательным бельем. А вдруг? А что, если он прав, талантливо представляя наличие непочатого пузыря во тьме гардероба?
Не шибко радовало его и мое сосредоточенное молчание по данному поводу. Вот он приходит ко мне. Я молча встречаю его. Он что-то хочет спросить. Я молчу. Он опять спрашивает, опять интересуется, опять спрашивает, опять интересуется. Я снова молчу.
«Откупорю в другой раз. Непосредственно перед праздником, - думаю я, не глядя на товарища. – А пока рановато еще!».
А за окном Москва ночная, и что-то где-то происходит, и невозможно определить, что же именно.
Он еще раз внятно интересуется, глядя на шкаф.
Я продолжаю молчать, и Москва ночная огнями светится.
Он продолжает интересоваться. Запомнилось: «Чего ты, Армяков, молчишь, подручный ты в матерчатой кепке! Не приду я больше к тебе!».
Я на его слова не обижаюсь, хотя и тянет обидеться. Сижу и вижу запонки в манжетах и галстук в фиолетовых огурцах. Я думаю: «В другой раз точно обижусь!». А он опять: «Да чего ты молчишь! Мне очень обидно, когда ты молчишь! Вот не приду я больше к тебе!». И, не увидев никакой реакции с моей стороны, он схватывает свою шляпу с крючка.
Хлопает дверь.
Да еще с такой силой, что над головой дяди Пети Сандальева продолговатая лампочка загорается. И дядя Петя Сандальев, проснувшись, говорит: «Башку б ему оторвать, е… его в кочегарку, а Кольке яйца!».
Что – в совокупности – и выносит товарища вон из ночной квартиры. А затем – и вовсе на ночную улицу.
Вскоре шаги его затихают в районе Большого Каменного моста.
На мосту он, по своему обыкновению, стоял и «под небом полуночи» курил над полноводной столичной рекой, любуясь опрокинутыми в реку фонарями.
Умные книги
Окурок в воду полетел, да в воде и погас. Александр Петрович домой на трамвае вернулся. В ту ли ночь или еще в какую он, так и не дождавшись полнолуния, взял моду фривольно располагаться в верхней одежде в комнате на диване и кропотливо читать всякую, не относившуюся к партийному строительству, литературу?
Из самых знаменитых книг он (по его признанию) прочитал раза три «Нос», пять раз «Историю Государства Российского», шесть раз «Словарь иностранных слов» в коричневом ледерине, однако ни разу не прочитал 51-ый том из полного собрания сочинений В.И.Ленина. Покончив с этими книгами, он, заперевшись в уборной, при свете лампочки свечей на сорок многократно проштудировал древнеиндийскую «Камасутру» в подлиннике, со всеми, помещенными в ней, цветными иллюстрациями. Еще один заход был в сторону многостраничного «Цемента». Он в «Цементе» дошел до сорок четвертой страницы, ни фига не понял, после чего резко с дивана встал и сказал сам себе:
- Да на хер мне сдался «Цемент»!
Так что я, как человек, не один раз слышавший похожие выражения, и сегодня убежден: «социалистический реализм» следует считать приемом, а не методом. Тем более что в качестве доказательства, что это именно так, Александр Петрович употреблял слова, призванные, по его мнению, доказывать реализм, но ни в коем случае не его социалистическое наполнение, вместившееся в громадное количество томов и одновременно в лихое песенное выражение «Мустафа дорогу строил, Мустафа ее любил. Мустафа по ней поехал, а Жиган его убил».
Не в ту ли бессонную ночь зародилась у меня еще одна светлая мысль о том, что я, в свою очередь, о чем-нибудь подобном когда-нибудь попробую рассказать Александру Петровичу?
Реакция на печать
Известный случай в каптерке. Сергей Львович входит с газетой, садится на телогрейки и, папиросу закурив, говорит: - «По премиальным опять ничего. Знаю, что наши на Луну собираются. Хотят американцев опередить. Вы, Армяков, что об этом думаете: опередят или не опередят?» - «Не знаю, Сергей Львович, - говорю я. – Но думаю, что опередят». - «Надо, чтобы опередили, - говорит он. – От этого и наша премия зависит».
Что можно еще сказать о чтении газет?
Ничего, кроме слова «Вперед!», входившего в название передовой статьи. Статья была не о ближайшем полете на Луну, а о достижениях в области народного хозяйства: что-то про МТС, «кузькину мать», электроэнергетику, сельское хозяйство, мировой империализм, об удачных экспериментах на домашних животных. Сама же «Правда» всегда была одной и той же: за такое-то число такого-то года такого-то месяца. На ней сохранилось пятно от чая. Дело в том, что я, приехав вечером с работы и на что-то разозлившись, поставил на неё свой белый заварной чайник с мелкой грузинской заваркой внутри.
В другой раз вечером я, опять на что-то разозлившись, вытащил газету из бокового кармана куртки и, с характерным шуршанием развернув её на всю ширину формата А2, распахнул дверь и отчётливо произнес: - «Тыквин! Александр Петрович! Ты мою вчерашнюю «Правду» почитать хочешь?». Он тут же вошел, на диван лег и с него отозвался: - «Еще чего! Я, да будет тебе известно, и сегодняшнюю-то не очень хочу».
Вероятно, он ждал, что я не газету из кармана вытащу. Он, наверное, представлял, что я, скажем, пачку пельменей из кармана извлеку, а то еще что-нибудь в стекле и с красивой этикеткой, парящим журавлем оживленной. Поэтому реакцию его можно понять. Похожая реакция, по последним данным, является прямым ответом наиболее чувствительных натур на некоторую неухоженность жизни. Бывает, что и настроение натуру подведет, и кишечник у нее расстроится, и мелкие прыщи на лбу.
По-моему, ни славы, ни уверенности всё это не прибавляло нигде и никому, в том числе и другу моему Александру Петровичу. Не видел он в этом ничего выдающегося. И, полагаю, ужасно хотелось ему подвергнуть сомнению даже не базовый фундамент отечественного тоталитаризма, а мое упорное нежелание вникать в глубинный смысл его личных выкладок и определений.
Несколько соображений относительно мелких прыщей на лбу.
Он смазывал их белой аптекарской мазью: ее составляла на заказ вежливая женщина-фармацевт, Берта Ароновна Фишер, из нашей аптеки на углу. Вот мазь была! Она, по-моему, воняла чуть ли не на всю Европейскую часть Советского Союза. Все аптеки в округе закрывали на санитарный день. Кроме аптек, на санитарный день закрывали почему-то все фотоателье в ближайшей округе. Я на комсомольский билет из-за этого так и не смог сфотографироваться. Что не слишком огорчило меня.
Не берусь обсуждать состав мази. Ее состав – далеко за пределами моего понимания. Кажется, толчёная яичная скорлупа, кизяк с малиной, вазелин, чешуя, кошачьи слёзы, ещё какая-то невыразимая дрянь. Ясно, что Тыквин был против выражения «невыносимая дрянь». Он утверждал, что абсолютно никакая не дрянь, а советское чудо гомеопатии, созданное вопреки официальной науке и уходящее своими корнями в «Народный лечебник» 1836 года выпуска. Якобы этой мазью ещё Дениса Давыдова от запоя лечили, а княжну Тараканову от непреодолимого страха перед крысами и водной стихией. И если бы он сам такую мазь придумал, то поразил бы в шведском Стокгольме весь Нобелевский Комитет в полном составе. «А там-то уж люди ого-го-го какие!». Мне тоже казалось, что Комитет подал бы в отставку сразу. На мой взгляд, мазь воняла на всю европейскую часть покруче, чем ноги у парочки мужиков у нас в строительной каптерке. Хочу сразу сказать: у обоих мужиков фамилии были почти одинаковые: у одного Смирнов, а у другого Кузякин. Оба – плотники. Лица тоже почти одинаковые. В смысле носов: у одного – длинный и с горбинкой, а у другого – короткий и приплюснутый. А говорили они, подобно известным героям Николая Васильевича Гоголя из «Ревизора»: - «Что замандёхать прикажете? Сколотить? Лакернуть? Документик какой в рамочку вставить?».
Само собой разумеется, что ни у какого Гоголя никакие герои ни в каком «Ревизоре» ничего подобного не говорили никогда.
Закуска и Сталин
Мои записки никогда не окажутся завершенными, даже если я честно возьмусь за их завершение. Конца-края им не видно, и признаюсь, что как бы ни напрягался, а не удастся мне отличить края от концов.
А то, что чаще я от Александра Петровича терпел, нежели он от меня, так и то правда. Чаще я от него, а не он от меня слышал обидные слова, возгласы, выражения, вроде таких: «Подручный геодезиста ты, Армяков, и кепка на тебе матерчатая!». Или таких: «Не о том, чувак, ты в душном кабаке поешь!». И это с учетом того, что ни в одном их душных кабаков великого города я никогда не пел. Откуда он взял?
Весьма редко высказывал я свое недоверие в отношении его ёмких, безжалостных формулировок. Особенно, если в адрес моей пока еще будущей, а оттого еще более правдивой информации он намеревался, выйдя на середину комнаты, высказаться примерно так: «Никакие дальневосточные смертники просто так не прилетают! Кончай ты вводить меня в заблуждение!». И важно здесь именно то, что я в заблуждение вводить его вовсе не собирался. Я намеревался лишь поподробней изложить духоту каптерки, шум бригады, огромность будущей строительной площади, возможность возведения 999-ти этажей, намеренно спроектированного, «Отеля разбитых сердец», а также тот, вне всяких сомнений, очень странный случай, имевший место на берегах монгольской реки и рассказанный мне Сергеем Львовичем. (С определенной долей вероятности.)
Дополню свое впечатление еще и тем, что наиболее прямо и откровенно выражал Александр Петрович свою обиду на меня не только ради того, чтобы защитить свою личность и одновременно грубо ущемить мое самолюбие: я и сам умел его ущемлять. Он, помимо моего упорного молчания о стеклянной заначке в шкафу и намеченной на будущее авиационной катастрофе, обижался на меня в тех исключительных случаях, когда я у него интересовался, откуда у него такие сведения, что, скажем, профсоюзная Веревкина расхаживает по городу в оранжевом подольском пальто с черными пуговицами, а кинозвезда Мэрилин Монро разгуливает по улицам без трусов. Он мне на это говорил: «Радио слушать надо». Я долго и сосредоточенно слушал, однако ни про какие такие прогулки ни разу не услыхал. Он тогда говорил: «Телевизор смотреть надо».
А то еще сорвется со стула, по комнате расхаживает и всё что-то спрашивает и спрашивает. То о внешней политике, то о внутренней. То об обезглавленных шпротах золотистых в плоской жестяной банке, то о каких-то мелких зеленых яблоках, то о мясных пельменях в кастрюле. Так его и подмывает воскликнуть: «Шпро-ти-ки!». Узел галстука поправит и опять: «Шпро-ти-ки!». А то еще глаза вытаращит, садится напротив и домогается, почему так и не слетал к «У летчикам», и почему я, ежели пока не получил на стройке премиальные, сижу на стуле, а не сбегал к дяде Пете Сандальеву, чтобы денег у дяди Пети занять. Я ему: «Так ведь дядя Петя Сандальев под своей продолговатой лампочкой лежит!». А он мне: «Он-то под лампочкой лежит, а ты своей ленивой задницей на стуле сидишь! Ужасно вы разные люди!».
Потом он снова куда-то дня на два пропал. И все два дня не покидала меня мысль, с одной стороны, об отечественном тоталитаризме, а с другой, о неприятном твердом инструменте, который где-то кому-то вставляют туда, куда не очень желательно, чтобы вставляли, подключив инструмент предварительно к городской электросети, а человека поставив в коленно-локтевое положение.
Но вернулся он в мою комнату не в своей рыжей лохматой шапке, а в своей шляпе и прежнем блеске. Вернулся, узнав новые и сверкающие подробности не про грубейший и, должно быть, крайне болезненный инструментальный процесс, а о чем-то более примечательном, о чем, наверное, собирался узнать, используя свои выдающиеся способности вникать в глубины происходящего.
И новое его знание обогатило меня, и я ему благодарен за новое знание.
Конечно, он для начала мрачно накричал на меня, и я стоически перенес его крик. Мужественно пережил я и все его попытки объяснить, почему на моем столе опять ничего не просматривается, кроме вчерашней «Правды», стеклянной пепельницы с окурками и двух алюминиевых вилок, так и не вымытых после позавчерашних наших посиделок. Обсуждение пепельницы и алюминиевых вилок продолжалось до двух часов ночи и сопровождалось ударами соседей по двери. А в третьем часу той же ночи я от него узнал, что всякий нормальный человек и в свирепую эпоху окружающего тоталитаризма обязан с салфеткой на груди сесть за сервированный фамильным серебром дубовый стол и упоительно за ним оттянуться. Однако оттягиваться человеку надо не одними советскими вкусными шпротами, вареными пельменями и зелеными яблоками, а иметь на своем столе весь ассортимент продуктов. Каковой ассортимент правильно и густо показан на цветной вкладке в «Книге о вкусной и здоровой пище». С эпиграфом из Сталина.
Я и сейчас мог бы, если напрягусь, отчетливо продемонстрировать вам то место, где он стоял с этой мощной поваренной книгой в руках. Как он стоял и в какой позе. Как он над ней нагибался, поднимал ее вверх, опускал вниз. Как он ложился с ней на диван, чтобы тотчас подняться и пройтись с ней по комнате. А как он читал! Ах, как он читал! С каким выражением! С таким выражение лучшие люди эпохи читали «У лукоморья дуб зеленый…». А с каким чувством, с какой убежденностью произносил он сложнейшие рецепты приготовления, цитировал составы соусов, подливок, маринадов! Как он прекрасно говорил о том, с каким пиететом надо свежие овощи в кастрюле парить при наглухо закрытой крышке и на тихом голубом огне!
Могу я целиком привести весь эпиграф к правильной и вкусной книге, которую цитировал Александр Петрович. В эпиграфе – всего несколько слов. Но какие слова! Какие выражения! С какой мощью и силой в течение долгих десятилетий влияли они на умы и поступки десятков миллионов людей! Но вряд ли обнаружу я достаточно сил в себе, чтобы со всеми подробностями описать весь длинный и широкий стол, снабжённый балыком, нежным розовым мясом, малосольными огурцами, многими видами салатов, спаржи, креветок, раков, омаров, лангустов, сыров, брынз, свежей зеленью, сортами наилучших вин, дунайской сельдью (кусочками), а в середине – молочный поросенок с майонезом в ноздрях и с черносливами вместо глаз. Товарищ, помню, несколько раз показывал, насколько великолепно и с каким выражением следует входить в дверь с этим поросенком на вытянутых руках. Он был и в этом неподражаем!
Я не первый день на свете живу. Я никогда не сомневался, что все его позывы очевидны, и всё идет к тому, чтобы вошел товарищ в дверь не с длинным электротехническим инструментом неприличного назначения, а с молочным поросенком с майонезом в ноздрях. Под музыку по радио и завистливые крики соседей за стеной. Позывы и к гастрономическому столу не менее очевидны. Вполне обоснованны надежды всякого нормального человека на его постоянное место за данным столом. В любое время суток, в любую погоду, при любом общественно-экономическом устройстве. И с ранней юности, частично погибшей в табачном дыму отдаленной каптерки, твердо верю я в счастливое торжество богатой трапезы над всем остальным. Верю я и в капли влаги на поверхности сыра, и в буйный запах тропических фруктов, азиатских растений, и в розоватый оттенок свежайшего копченого подмосковного мяса, и в сладко-горький вкус черного шоколада, созданного за кирпичными стенами кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Ни во что я с такой силой не верю, как в подобное торжество!
Впрочем, с еще большей силой верю я и в то, что в связи с не всегда исправной работой кишечника, докучавшей ему с раннего детства (прямокишечный дисбактериз?), Александр Петрович стоял в кухне в позе часового (руки по швам) и прислушивался к ухающим и заунывным звукам в кухонном вытяжном колпаке. Теперь это называется загадочно и сложно: «кратким временем созерцания самого себе в период задержки эффекта дефекации». А ведь еще в день рождения Александра Петровича это так не называлось: Сталин запретил.
Смутные образы будущего
Всё дальнейшее напоминает события, которые если где и бывают, то исключительно в столь же неловких и сумбурных воспоминаниях, как вот эти мои. Зачем мне кого-то обманывать при настольной лампе и собачьем лае за окном? И потому, наверное, «Отель Разбитых Сердец» лишь смутно намечался на окраине города, не ведая о том, что именно так и будет называться, а мой друг Александр Петрович Тыквин не предполагал, что родился на 5486-й день после контузии полковника Стёгина, о чем и сам полковник, скорее всего, не догадывался. Сам же Тыквин, безусловно, слышал о факте покидания им утробы матери-машинистки, запомнившейся мне изящной своей худобой, глубоким декольте и алой гвоздикой в темных, словно южная ночь, волосах. В тот день весна еще не началась, но март уже начался. Промозглый март 1953-его, навеки озвученный грохотом всесоюзного траурного сообщения. И факт покидания им утробы матери-машинистки имел место. Но явно не на 5486-й день после контузии полковника Стёгина, а на другой день после смерти И.В.Сталина. Так что и об этом удивительном «совпадении» размышлять ему приходилось, хотя в официальной метрике не обнаруживал он прямого ответа.
Однажды он даже на кафедру ВПШа не поехал, чтобы со всем изящным могуществом своих убеждений надвинуться с западного конца коридора на «довоенного» профессора Дроцкого. Роняя голубые искры на темный асфальт, трамвай отбыл в сторону проезда им. Н.К. Крупской без моего товарища. И он, в такие дни особенно безжалостный к себе, почти все светлое время суток простоял, уставившись на белый посудный шкаф с красной пластмассовой ручкой. Кухонный колпак вытяжной отчего-то безмолвствовал. Дух сиятельного Бенкендорфа помалкивал в кухонном колпаке.
На закате дня вернулся мой товарищ в большую комнату на 6-ом этаже и лег на диван. Закрыл глаза, и многочисленные мысли посетили его. Мама из-за шторы крикнула ему:
- Саша, ты опять на мосту простудился?
- Нет, - отозвался он, - я не простудился на мосту.
- А что же тогда?
- Да вот…
- Кишечник?
- Нет, не кишечник.
- Так что же тогда?
- Просто лежу. Лежу и размышляю.
- Ну, поразмышляй, сынок, поразмышляй… Я только прошу тебя: ботинки сними и слишком далеко не заходи в своих размышлениях, а то мало ли что!
- Хорошо, мама, я постараюсь.
Он некоторое время очень старался. Он некоторое время мужественно и упорно сражался с сами собой. Ужасно не хотелось ему слишком далеко не заходить. Увы! Как ни отлынивал, а все-таки зашел и стал мысленно и напряженно вглядываться в даль. Что увидел он в этой дали? Какие картины?
Сначала никаких уникальных картин товарищ не увидел. Желтые туманы клубились над бескрайними болотами, и слышались гортанные крики огромных животных, которые, похоже, давно уж повымерли все. Появлялась и предпраздничная иллюминация. Помигав сотнями лапочек на фронтоне, она вскоре гасла; и танки двигались на парад, и толпы людей срывали портреты с фронтонов… Затем где-то там, в прохладных осенних, пока еще далеких и туманных областях, принялись разворачиваться иные по характеру картины. И разворачивались они во всю их потрясающую ширину и не менее потрясающую глубину. И, словно пустынный мираж, в том же бескрайнем регионе маячили смутные образы его личного, перспективного будущего, если вынести за скобки не наши беспримерные посиделки, возможность «ядерной зимы» и даже не смерть величайшего в истории и наиболее злого генералиссимуса с черными усами, а еще раз упомянуть трагическое происшествие в безоблачном небе над Средиземным морем.
Замечу, что невыносимо трагичней могло бы всё закончиться значительно раньше, если бы случилась с ним еще одна катастрофа. Имя ее было названо, поэтому называю еще раз: «прямокишечный дисбактериоз». Что и явилось поводом к тому, чтобы Тыквин на всю аудиторию сказал: «Это, простите, брюссельская капуста. Ее мой товарищ, Николай Владимирович Армяков, у себя дома на подоконнике вырастил». За сим пришлось прервать лекцию и срочно эвакуировать из аудитории более трех сотен человек: давка образовалась страшная. Однако это, скорее, исключение, чем правило. Отчетливый казус, так и не объявленный впоследствии одним из многочисленных казусов нашей бесподобной молодости, когда ему, как и мне, было чуть за двадцать, и были мы с ним полны надежд и мечтаний. Во всех иных местах и при всех аналогичных обстоятельствах ничего похожего ни с ним, ни со мной никогда не случалось.
А в нехорошую ситуацию в безоблачном небе над Средиземным морем он попал лет через двадцать пять после окончания наших с ним приключений. Мир к тому времени сильнейшие изменения претерпел. Вся наша молодость на нет сошла, за исключением моих воспоминаний о ней. Был он в той же шляпе, с тем же носом и в том же пиджаке с видавшим виды хлястиком, однако уже в зрелом мужском возрасте. Разбогател к тому времени чудовищно на многократной перепродаже различных по размеру пустырей под будущее строительство одного и того же «Отеля разбитых сердец» – со всеми его шпилями, горельефами, санитарно-техническим оборудованием и 999-ю этажами. Поэтому можно смело утверждать, что трагедия хоть и трагедия, но все-таки постигла далеко не юношу. Трагедия постигла человека с уже полностью сформировавшейся психикой и натренированным в Москве мировоззрением.
Вот что еще очень важно. Дело тут, опять-таки, во мне и в моем желании спустя годы все вспомнить и ничего не пропустить. Что-то неизбежно придется пропустить, да и многочисленные детали в их былом состоянии, во всем их прелестном многообразии восстановить вряд ли возможно. Придешь, бывало, с работы домой совершенно разбитый и пытаешься что-нибудь выхватить из многоликого прошлого, а ничего не выходит. Вот и собираешься лечь спать трезвый и злой. Одно лишь оптимизма прибавляет: рюмка коньяка, и долькой лимона рюмку закусить. И теплеет внутри, и новая заря мерещится, фруктовые берега, юные девушки без трусов, и при созерцании столь мерцающего великолепия нет уже уверенности в трагическом конце жизни товарища. Так что я, как человек, хватанувший пару рюмок конька и долькой лимона закусивший, по-прежнему не уверен, что до отказа груженый людьми и чемоданами трансконтинентальный аэроплан взорвался в воздухе потому, что врезался в его хвостовое оперение насмерть перепуганный японский камикадзе. Откуда бы взялся? Мне кажется, что никакой камикадзе в хвостовое оперение не врезался, и, стало быть, это мог быть, скажем, конец Сергея Львовича, но не мог быть конец Александра Петровича. Вот и просыпаешься ночью с единственной мыслью в голове. Луна в оконном стекле. Так и хочется закричать: «Нет! Вовсе не Александр Петрович попал в ту ужасную катастрофу, повлекшую за собой десятки человеческих жертв!». Был то не мой товарищ, а кто-то другой. Бог знает, кто именно. Просто кто-то другой. Хотя всё еще живые очевидцы ходят по Москве. Ходят и ходят, ничего с ними не делается. Они по-прежнему такие же модные, такие же расфуфыренные. Вот они-то и утверждают, что в густой чаще фантастических фиолетовых водорослей, на глубине чуть более двух с половиной километров, на дне Средиземного моря покоится до сих пор его незабываемая шляпа с полями, загнутыми кверху. На голливудский манер.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Первая бумага
На тот же осенний период в Москве приходится событие, сначала не имевшее прямого отношения ни к моим заметкам, ни к моему товарищу, а после (с моей подачи) отнесшееся и к ним. Я имею ввиду не мое весьма монотонное, постоянно продолжавшееся путешествие на работу и назад. Две тяжелые пересадки на Комсомольской площади, автобус с холодными поручнями, суконные спины, какая-то улица с желтыми низкими домами, два манекена в витрине, гвоздь, вбитый в забор… Гудки на перегоне… А также получение важной бумаги из Головного управления. В ней было несколько фраз. Вы догадались, о чем?
Не скрою от вас, что догадались первым не вы. Ведь, если бы вы, была бы ваша победа, и полированные изящные фанфары раскроили бы в вашу честь воздушную тишину. Но вы не догадались. Фанфары тишины не раскроили, и побыстрее вас пронзительная догадка осенила нашу приземистую кадровичку Наталью Николаевну Голубятникову. В рыжей шубе из ненастоящей лисы, в сапогах типа «чулок», в безобразно зеленой шляпе она и вошла с осенительной догадкой в нашу многолюдную каптерку, где воздух в отдельные часы и минуты оказывался настолько плотен, что входную дверь заклинивало.
Середина рабочего дня. Снаружи – длинный холодный дождь. Мужики из бригады сидели кто на чем и курили, как водится, «Приму» без фильтра. Очень вонючее курево, надо сказать. Сигареты «Дымок» вообще дерьмо полное.
Войдя, кадровичка, выхватив из шубы платок, прижала его к носу и нелицеприятно отозвалась о царившей в помещении атмосфере. Отозвавшись, она тотчас собиралась выйти из помещения вон, однако отчего-то замешкалась и не вышла.
- Ну, ребятишки, вот и дождались, - произнесла Наталья Николаевна в прижатый к носу платок.
- Чего?
- Что слышали. Едут к нам очень важные люди.
- Чего?
- Глухие или прикинулись? Люди к нам важные едут!
- А! Вон чего! Кто ж такие?
- Так я вам и сказала. Знаю, что три человека. И бумагу везут.
Наталья Николаевна не обманула: она была взрослой женщиной, не склонной к обману вообще. Она оказалась права, и меня, как самого молодого, откомандировали встречать. «Ты, Николай, иди людей встречай, о каких наша кадровичка говорила. А как заприметишь этих людей, так суй два пальца в рот и нам сразу свисти. Мы всем кагалом встанем, возьмем по железному гвоздодеру и выйдем этим людям навстречу».
Пальцев в рот я не сунул, и с железным гвоздодером людям навстречу не вышел никто. А люди приехали. И приехали они на легковом советском бензиновом автомобиле «Волга ГАЗ-21» с устремленным куда-то металлическим оленем на капоте.
Все трое были в строгих расстегнутых черных пальто и, по моему впечатлению, «в сияющих скандинавских ботинках». Один из приехавших – человек низкорослый, коротконогий, в золотых очках, с остреньким личиком и папиросой во рту. Двое других (реальность не позволяет соврать) тоже с папиросами во рту, но повыше того, что в очках, одутловатые и пошире. Умные современные интеллигентные люди о таких говорят: «Сижу я у себя, никого не трогаю, никаких взяток никому не даю, голубым глазом взираю на мир, и вдруг входят двое здоровенных таких пердаков европейского вида». Правильное наблюдение. Верно подмечено. Хотя ни такой походки, ни таких шляп с такими полями, ни такого выражения я никогда не видел. Никогда! Ни на Тыквине, ни на ком-либо другом. А уж какие модные мужчины и женщины встречались мне на моем жизненном пути!
Сразу после их отъезда мой начальник, тяжко о чем-то задумавшись, ходил под окном. Я слышал его шаги, поскольку, если он ходил под окном, то я всегда слышал его шаги. Помимо этого, я в окно видел его фуражку сквозь мутную пелену непогоды. Фуражка двигалась в ту же сторону, что и бывший полковник.
Вскоре я услышал, что он ногами топает на пороге…
- Армяков!
- Я здесь, Сергей Львович.
- Вот это правильно, что вы здесь.
- А где же мне быть, Сергей Львович?
- Да кто вас знает… кто вас знает… - Он сел рядом со мной. - А мы, между прочим, важный документ получили… его бы в рамку вставить… - Он рукой в воздухе показал форму и размеры рамки, куда вставлять нужно; затем продолжил: - Ну, да ладно. Кузякин вставят со Смирновым… Надо сперва всю площадку разметить.
Я, наверняка зная, что последует дальше, глядел на него без всякого интереса.
- Вижу, что не зажег мой план моего юного помощника, не зажег... - сидя рядом со мной, с огорчением произнес он.
Я продолжал глядеть на него без всякого интереса.
- Однако это не суть… Суть же в том, чтобы вы, Армяков, тут в тепле не слишком особенно располагались.
- А что такое, Сергей Львович?
- Воздух спертый.
- Да?
- Да.
- А почему, Сергей Львович?
- А потому, что ежели семь взрослых мужиков в казенном помещении напердят, так всегда воздух спертый. Это – закон не войны. Это – общечеловеческий закон… Так что вы тут особенно-то не располагайтесь, нечего вам… Вы, знаете ли, берите сейчас вот эту оптическую астролябию Данжона и бегите с ней. И не мешкайте. Вы сразу бегите с ней к северной части объекта. Там вы должны услышать гудки на Ярославском перегоне. От них и будем плясать. Это вам ясно?
- Ясно, Сергей Львович.
Свет в помещении был не столь привлекательный, как, скажем, в теперешнем столичном бутике. Улицы теперь тоже прекрасно освещены. Правда, самое стильное и добротное освещение бывает в районе промышленных труб Капотни, или под Новый год, когда вся Москва зажигает все люстры, все прожектора, все лампочки и бабахает из всех видов фейерверочного оружия. Фары новейших иностранных автомобилей светят тоже ничего себе ослепительно. Чего никак нельзя сказать о тех заплеванных столичных уголках, где банки из-под пива, и модные крикливые ребятишки курят и на гитарах бренчат.
Впрочем, скудного освещения и в нашей каптерке хватало, чтобы при первой же возможности не прозевать крупного, с усами, довольно-таки изможденного, пожилого, но все еще активного мужчину в армейской фуражке без звезды. Мужчина был в сапогах и плащ-палатке. Сильный физически и опытный по жизни, он владел множеством подробностей про не известную мне войну, случившуюся где-то на Востоке, в районе монгольской реки. По его словам, мужчину жестко контузило на не известной мне войне. Сам он в минуты полного откровения указывал на такую причину: метрах в двух-трех от него с жутким свистом врезался в землю и взорвался японский летающий самоубийца. «Фанатик, едри его в качель».
- А как я появлюсь… - Он постепенно возвращался с войны в мирную жизнь, - …так вы кончайте слушать гудки… так вы мне навстречу идите… Вы только того… Вы только меня не доводите, чтоб я за вами ходил и в затылок кричал: «Где это вас, Армяков, с астролябией носит! Где это вы с прибором пропали!»… Я, во-первых, старше вас на пару-тройку десятилетий, а во-вторых… Да… Где это видано, чтобы опытный начальник, главный геодезист, военный человек и натуральный полковник кричал такую дрянь на работе!
Надо ли объяснять, что на рассвете дождь кончился, и первая метель завыла, и лампочка подмигивала в нашей каптёрке. Стаканы на столе. Полковник стоял посреди служебного помещения. Он – при всех орденах, в довоенной портупее. Он стоял и кричал что-то про японских летающих самоубийц. О том, что по ним его полк вёл прицельный огонь. Из всех видов оружия. И стоило разочек промазать…
Сны юности
Здесь я, на время оставив бывшего полковника посреди каптерки и в фуражке без звезды, напомню, что соседи мои по той громадной и длинной квартире, в жилой фонд которой входила моя двенадцатиметровая комната, редко отказывались от восхитительного мнения обо мне. Все-таки молодой еще парнишка, ботинки со шнурками, кепочка матерчатая, резиновый эспандер растягивает на заре. Молчалив, правда, не в меру. А кто же не молчалив в столь юном возрасте? Да и женщин водит не часто, а если и водит, то не к ним, а к себе. Недавно взрослая длиннолицая женщина к нему приходила: брюнетка с длинной шеей и в кожаных черных перчатках. Вдруг женится на ней? А если не на ней, то, может, на маленькой сероглазой девушке из ближайшего Подмосковья… Они уверяли себя, что я нахожусь на переднем крае борьбы за лучшую и более светлую жизнь. Лишь спустя много лет я пришел к выводу, что не все соседи с одинаковой силой в этом были уверены. Некоторым, по-моему, вообще было наплевать, кто и на каком плане находится и за что борется. Они вообще ни в чем не были уверены. У них была своя жизнь. Как вообще, так и в частности. У каждого своя, а не у всех вместе.
Всё их непростое существование в чем-то напоминало мое, а в чем-то радикально с ним расходилось. И если я поближе к ночи, когда почти вся жизнь в Москве погружалась во тьму великодержавного захолустья, скромно садился на стул в ожидании, что вот сейчас войдет в дверь мой товарищ, родившийся на другой день после смерти И.В. Сталина, то соседи мои никакого такого товарища не ждали никогда. Напротив, они не сомневались, что чем реже такой товарищ будет ко мне приходить, тем более спокойным окажется их личное существование, и гортанные крики не станут доноситься из моей комнаты. На кой хрен им знать про чужую эрекцию? Какая такая Монро? А для чего Аарон? На кой черт поет за океаном бывший немец? А кому и для чего куда-то чего-то вставляют? Да, я по случаю осеннего полнолуния могу врубить свой ламповый радиоприемник на полную катушку, но тогда и они в своем праве меня предупредить несколькими ударами нескольких кулаков по двери… При слишком громком скрипе пружин моего дивана они опять в своем праве меня предупредить тем же квартирным способом, а также если моя алюминиевая вилка упадет со стола… Возможно, что и управдома позовут, хотя мудак полный и окончательный, почище профессора Дроцкого. А то и кто из милиции погонами заблестит и сапогами застучит в полусонном коридоре…
Соседи мои, закончив греметь, скрипеть, петь, стучать и кричать, имели привычку уверять себя, что теперь-то уж наверняка ничто постороннее с оттопыренными ушами не ворвется в умиротворенную тишину их ночного покоя. С этой мыслью ложились они на кровати и видели во сне свои обычные сны. Их содержание они, безмерно утомленные нормальными тяготами жизни, в большинстве своем забывали. Единственное, что кто-то помнил – необходимость толкования приснившегося. С тем чтобы определить связь между жизнью и сновидениями. Обычно такая связь была довольно зыбкой. Что ни в коем случае не мешало соседям приходить утром в общую кухню и, зевая, ставить свои кастрюли на газ. Несколько конфорок, подключенных к газовой трубе, загорались сразу, и в стеклянной бутылке из-под подсолнечного масла, стоявшей на подоконнике, мерцали мелкие голубые огоньки. Соседи ждали, пока пища согреется. Пища грелась, и запахи сплоченными толпами вырывались из-под хозяйственных круглых крышек, и чьи-то громадные фиолетовые панталоны покачивались медленно, словно текстильный символ сложнейшей коммунальной жизни. В процессе ожидания горячей еды соседи отмечали разное. Например, приснившаяся очередь в Мавзолей: навалом народу в теплой одежде, и дети с ними. Такое, должно быть, к подорожанию сахарного песка или к тому, что спички отсыреют. Вместе с тем соседи не пропускали мимо себя и того важнейшего обстоятельства, что если мужчине явятся во сне какие-либо крупные дамские панталоны, то приснившаяся нательная вещь означает невысказанное желание изменить жене с посторонней женщиной и, как правило, весьма крупной, любвеобильной, словоохотливой.
Мне ничего подобного не снилось никогда. Для чего? Я уже говорил, что сны мои оказывались большей частью утонченно-эротические и, можно сказать, восторженно-сексуальные. Восторг резко усилился после того, как я впервые в жизни увидел у себя в комнате большой и влажный «цветок любви». (Его мне, после долгих уговоров сняв фиолетовые рейтузы, показала длиннолицая женщина, с которой я познакомился неподалеку от магазина женской одежды «Светлана».) Я несколько ночей подряд спал потом очень беспокойно. Я видел во сне, что окружавшая меня действительность накрывается этим цветком.
Не вся действительность накрылась похожим цветком, а лишь частично. Поэтому спустя много лет и стали возникать откуда-то вот эти записки со всем их сумбуром. Крайне загадочен для меня сложнейший механизм их возникновения. Я думаю, что надо еще в нем разбираться и разбираться, посвящая разборкам всё больше и больше свободного времени. Как и тому вопросу, для чего я в юности с дивана вставал и, кишечник опорожнив, принимался растягивать резиновый эспандер на заре. Были и ботинки со шнурками, и фикус комнатный на подоконнике, и ламповый радиоприемник, и трещина на стекле. И мои утомительные поездки через весь город.
Александр Петрович Тыквин, мой друг юности и товарищ детства. Он тоже был. И вижу я его во всем его призрачном и предпраздничном великолепии. Не отвергаю А.П. ни в коему случае. Хотя, признаться, зануда тот еще, очень занудливый намекала.
Он в очередной раз мог и на тоталитаризм намекнуть, как-то, по его утверждению, связанный с твердым инструментальным приспособлением, похожим на плотницкий гвоздодер. А мог в дверях нарисоваться и за столом моим. Он и на моем пружинном диване умел добротно устроиться во всей верхней одежде, включая оранжевые носки и пиджак «джазовый» с видавшим виды хлястиком. А чего бы, собственно, и не устроиться ему? Из институтских коридоров с треском поперли, с профессором вдрызг разругался, с Системой не в ладах – свободного времени навалом. Так что он запросто мог в дверном проеме появиться и шляпу определить на крючок.
Не сильно ломало его и в том смысле, чтобы ночью мне позвонить. Звезды рубиновые вовсю над городом блещут, фаза лунная очередная не за горами, а он мне звонит. Я носки снял, а он опять звонит. Я лег на диван и на диване вытянулся с дивной мечтою о цветке любви и растяжке эспандера на заре, а он снова звонит. Иными словами, он ночью запросто мог по телефону любую глупость сказать, а то и просто накричать на меня по поводу недоверия к событиям его жизни: «Не о том, чувак, ты в душном кабаке поешь!». (Напомню, что никогда не пел я ни в каком из душных кабаков того времени. Откуда он взял?)
Тогда же состоялось еще одно событие, не отличавшееся особенной новизной.
Новая бумага
Где-то выше я отмечал, что на окраине Москвы, неподалеку от Конечного круга, мне приходилось ежедневно сновать с казенным оптическим прибором Данжона. С его помощью я ни одной звезды не поймал, зато без его помощи потерял свой ботинок в грязи. Хлопчатобумажный серый носок мой сразу промок. Я кожей ощутил ледяной холод близкой зимы, а не призывные огни ближайших праздников. Вскоре я свой ботинок нашел на дне свежевырытой траншеи, метрах в ста от того места, где потерял. Вскоре же лежал я в нашей душной каптёрке с ощущением хаоса в голове и, наблюдая новую луну в окошке, без всякой радости ждал, когда на пороге появится бывший крупный усатый полковник в фуражке без звезды и наброшенной на плечи плащ-палатке.
Ждать мне приходилось не слишком долго. А иногда совсем не приходилось. Похвалиться здесь нечем. Да и погода – дрянь несусветная. Так что, сами понимаете, ежели в такую погоду дверные петли скрипят, то жди серьезнейшего разбирательства. Примета такая.
Итак… О чем это я? Ах, да!
Дверные петли скрипели в нашей каптерке, и, влажный из-за дождя, Сергей Львович появлялся в фуражке и плащ-палатке и садился у меня в ногах. Чиркнув спичкой и закурив папиросу, он отчетливо говорил:
- Армяков!
- Я здесь, Сергей Львович.
- Правильно, что вы здесь.
При скудном свете небольшого электрического светильника (типа лампочки) я видел черные усы полковника и то, что на пачке папирос изображен шлюз. Тот самый, который открывает свободный выход в Обводной канал.
Мы некоторое время ничего не говорили друг другу в том смысле, что оба молчали: он и я. В том числе и о возможных попытках сделать из меня человека, о чем, кроме всего прочего, поговорить Сергей Львович тоже был большой охотник, равно как о месте человека в жизни. С прямым указанием на коренные отличия мирной жизни от военной.
Докурив одну папиросу и загасив ее в надтреснутое блюдце, он закуривал другую папиросу; докурив эту, теперь уже другую папиросу и загасив ее в надтреснутое блюдце, он третью папиросу не закуривал, хотя, наверное, и тянуло. Оставив папиросу в пачке, он доставал из нагрудного кармана плавленый сырок в фольге («Дружбу») и сосредоточенно, двумя пальцами принимался очищать его от фольги. Очистив и сунув «Дружбу» целиком в рот, он ее тотчас проглатывал, и безмолвная судорога пробегала по всему телу полковника.
- Вы что же… что же это вы, Армяков?
- Что же, Сергей Львович? Опять Армяков?
- Вы разве не догадались?
- О чем?
- Для чего люди к нам приезжали.
Я, продолжая лежать, ответил Сергею Львовичу, что если бы даже сразу не сообразил, то по внешнему виду приезжих сразу бы понял.
- Тогда кончайте лежать.
- Сейчас, Сергей Львович, сейчас кончу.
Но и после этого я лежать не кончал, а полковник мне говорил:
- Кончайте, кончайте. Давно уж перегон зовет… Да и воздух ужасно спертый… Приятно, что ли, не до конца еще сформированному человеку в такой атмосфере рожу мять об грязные промасленные телогрейки?
Он не сомневался, что мне, юному его подручному, рожу мять не может быть излишне приятно, а тем более об грязные промасленные телогрейки, однако не отказывал себе в праве уточнить качество данного вида казенной одежды, а также природу спертости воздушной среды. Детально их уточнив, Сергей Львович говорил, что «уж он-то без всяких яких знает, с какой такой целью и для чего эти люди к нам приезжали». И добавлял вдруг несколько невпопад:
- Нет, вы простите меня… Огни… перегон… кадровичка… Однако же… Какого члена!
Далее он молча и сосредоточенно выкуривал подряд еще несколько очень крепких папирос и, загасив их в надтреснутое блюдце, проглатывал еще один плавленый сырок «Дружбу», очистив его предварительно двумя пальцами от фольги. Следовала судорога по всему телу. Затем имели место несколько безмолвных минут, которые наступали тотчас после судороги. Ничего не происходило еще какое-то время, кроме шелеста дождя и гудков на перегоне. Далее с нарастающей силой возникал один из самих трагических эпизодов дальневосточной войны с указанием почти всего технического обеспечения, командного состава и неприятной ошибки службы ПВО, прозевавшей японского летающего смертника. В итоге – граненый стакан на больничной тумбочке. Приятный лысый доктор в бинокулярных очках. Доктор в дверь входит и говорит: «Ну, пиздец тебе, Львович!». А после – год 1956-й, чем-то напоминающий год 1965-й или, скажем, еще какой-то; и окончательная демобилизация. Диагноз: неизлечимая болезнь мозжечка, напрямую связанная с горьким ночным разочарованием любвеобильной супруги. После чего всё настойчивей стало в нем проявляться его упорное стремление к завершению геодезической разметки. На гражданке.
Шестой этаж
Всё остальное время я жил в ожидании, с одной стороны, своего товарища, а с другой, честно заработанных денег. Я отчетливо представлял, что часть их обязательно оставлю в какой-нибудь прокуренной шашлычной на углу. Не знаю, с кем и когда, но оставлю. Под звуки тамошнего небольшого оркестра, имевшего в составе контрабас, такой же давний, большой и потертый, словно громоздкий комод у Тыквина в комнате. Значительную часть мы обязательно пропьем и прокурим с моим товарищем по старому дому под музыку по радиоприемнику. От этого я тоже никуда не денусь. А если что останется, то постараюсь приодеться, ибо уже осень на дворе, и самое время шапку на зиму покупать и новые ортопедические стельки в ботинки. Так же не лишним было бы кое-что отложить на летний отдых. Как раз в тот год, помимо поступления в среднее техническое учебное заведение, я запланировал впервые в жизни поехать куда-нибудь на Юг, на берег моря, где не был раньше. Я мечтал увидеть море и колебания серебряного света на ночной лунной дороге, уходящей в неизвестность. Ощутить запах крупных и разноцветных ботанических цветов, приобрести большой пушистый персик на рынке, послушать живой провинциальный джазок, звучавший на танцплощадке верхнего санатория для членов профсоюза, потерявших душевный покой на многочисленных стройках социализма. Хотелось также посмотреть на небо, полное звезд. Я от очевидцев об этом небе много слышал. Очевидцы рассказывали мне о нем. Но я и сам хотел, задрав голову, под шум прибоя поглядеть на то, чем южное небо отличается от обычного московского.
В те же осенние дни, овеянные приятной надеждой на ближайшие денежные выплаты и уточнение сроков окончания разметки, получил неожиданное развитие один из моих любовных романов, начатый в сквере перед Большим театром, по словам девушки, «круглом».
По загадочной причине расстались мы в одну из осенних безлунных ночей. Дождик был мелкий. Она на последней электричке уехала на свою туманную станцию, а я на трамвае спать в комнату к себе поехал.
Но и двух недель не прошло, как она вернулась ко мне. Мне ее возвращение очень понравилось. Я мысленно даже подпрыгнул пару раз от радости осознавания, что она, эта маленькая и симпатичная девушка, вернулась ко мне из не самого далекого Подмосковья. Оттуда, где каменистая площадь перед сельмагом и виден с площади железнодорожный мост, какой-то косогор и белый хвост дыма из трубы местной бани. Суббота – женский день. Можно и в шайке голышом помыться.
Вскоре по приезду она сняла с себя свое пальто. Прекрасно помню: было у нее пальто почти совсем новое, ветрами почти непродуваемое, молью совершенно не побитое, а по форме похожее на колокол оранжевого цвета, с большими черными пуговицами. Ботики она тоже сняла. Черные и с железными застежками ботики, которые она снимала, сидя на стуле. Замечу, что без пальто и без ботиков она показалась мне еще симпатичней. Выпили, закусили, легли на диван.
- Эх, жизнь жестянка! – сказала она мне на диване.
- А что такое?
- У нас на площади перед сельмагом так говорят.
- Ну, знают, наверное, люди, что к чему, вот и говорят.
- Они-то знают. А вот я не знаю.
- Чего ты не знаешь?
- Не знаю ничего… В Большой Театр сходил б что ли…
- Я скоро деньги на стройке получу, мы обязательно сходим.
- На «Травиату»?
- На «Травиату».
- А лифчик ты мне новый купишь?
- Не только лифчик, а еще и пальто.
- Не надо мне пальто.
- Почему не надо пальто?
- Это пока еще справное. Их к нам в сельмаг завезли, все наши женщины себе сразу купили.
- Давно?
- Два года назад.
- До драки дошло?
- Нет, всем по одной штуке досталось.
- Это нормально. Хуже, если бы не досталось.
- А лифчики так и не завезли… Послушай, а до твоей получки еще сколько дней?
- Восемь или семь. Точно не помню.
- Так восемь или семь?
- Кажется, восемь.
- Ну, почему еще так долго ждать!
Печаль прозвучала в ее словах. Такая печаль, что я ей вынужден был ответить, что это уже совсем чепуха и ждать не очень долго. И к этому я прибавил несколько слов о том, что честно заработанные деньги – штука, конечно, очень важная и приятная, хотя и не самая главная в жизни.
- А что же, по-твоему, главное?
- Победа добрых сил общественного оптимизма, а также то, что ХХI век будет счастливей века ХХ.
- Ты в этом уверен?
- Уверен.
- Тебе об этом кто сказал?
- Это мне мой лучший друг сказал.
- Его как зовут?
- Тыквин Александр Петрович.
- А он кто такой?
- В каком смысле?
- Ну, откуда он, чем занимается…
- Он в настоящее время еще студент.
- В каком вузе?
- В ВэПэШа.
- А что это такое?
- Высшая Партийная Школа, возле которой трамвай останавливается.
- А он где живет?
- Кто?
- Александр этот твой… Петрович.
- Этот мой Александр живет на шестом этаже. Там же, где и Петрович.
Она, немного полежав, молча встала с дивана. Она была теперь, мало сказать, без пальто. Она была теперь совсем без пальто. Голая, симпатичная, нежная, юная, уютная, но уж очень вся какая-то маленькая.
Посмотрев внимательно в окно, она сказала, что с пола ей плохо видно, поэтому нужно на подоконник встать.
- Ну, встань.
Она встала на стул, затем на подоконник и прижалась носом к стеклу. Затем она спрыгнула на пол, вернулась на диван, залезла под одеяло и сказала:
- Так у вас же пятиэтажные дома?
- Ну и что?
- Как это ну и что?
- Да так… «Ну и что» оно и есть «ну и что».
- Ты не смеешься надо мной?
- Нет, не смеюсь.
- А мне кажется, что ты смеешься надо мной.
- Нет, я серьезно.
- Нет, ты смеешься. Скажи: смеешься или не смеешься?
- Да не смеюсь я, не смеюсь. Ты насчет этого можешь навсегда успокоиться.
Она придвинулась ко мне, за шею меня обняла, прижалась ко мне и в ухо прошептала:
- Как такое может быть, что у вас дома пятиэтажные, а он проживает на шестом?
- А, вот ты о чем. (Я ей хотел сказать, что и для меня иной раз это очень серьезная тайна, но не сказал.) …Тут, знаешь, все дело в том, что такие люди, как Александр Петрович, имеют право жить там, где им захочется. Хотя бы даже и на шестом этаже пятиэтажного дома. Ты вот еще не знаешь, а раньше в этом доме жил, между прочим, граф Бенкендорф.
- Да? Прямо как у нас на площади перед сельмагом. Там тоже живет один Бенкендорф. Лохматый такой и громко лает.
Очень неглупая сероглазая девушка!
Я это еще в круглом сквере понял. Тогда она, глядя на Большой театр, поклялась, что любит больше флору, чем фауну. И потом я в том же убедился, когда скрылись за поворотом красные огоньки хвостового вагона. И потом, когда увидел оранжевое пальто на пороге. И потом, когда она пальто с себя сняла. И потом, когда разделась совсем. Она, одни словом, была… Ну, была она сероглазой девушкой с темными нежными волосами, с таким же нежным треугольником внизу живота. С фигурой, как песочные часы. Подозреваю, что не было бы у нее ни нежного треугольника, ни изящной фигуры, наш роман вряд ли имел бы продолжение. Села в электричку, уехала к себе на станцию, да и Бог с тобой. Вот только не надо назад приезжать.
Она моей искренностью была немножко обескуражена и, полежав недолго в молчании, попросила дать ей закурить, если что-нибудь еще осталось из купленных накануне двух пачек «Явы» с фильтром.
Сигарета немножко подмокла: «партийное» на столе кто-то разлил. Я отдал ей сигарету. Девушка в ночи аккуратно высушила ее спичкой, затем с наслаждением курила лежа на спине. А я лежал рядом. Я лежал рядом с ней и думал о том, оставит ли она мне хотя бы пару затяжек.
За окном было не очень темно: в Москве совсем темно редко бывает. Излишне красиво и фантастически мерцал огонек сигареты в моей неприбранной комнате.
Я лежал с открытыми глазами и глядел в полумрак. Мой двустворчатый шкаф возвышался в полумраке, и город смутно гудел за окном, и разные мысли приходили мне в голову. Я представлял, что Сергей Львович сейчас, наверное, тоже лежит с открытыми глазами и раздумывает в ночи о вечной сущности отечественной геодезии, тяжких претензиях Галины Аркадьевны, неясности сроков разметки, явных происках империализма и как было бы справедливо, если бы удалось ему тогда купить ту розовую комбинацию, а затем определить камикадзе с помощью какого-нибудь высокоточного оптического прибора, заранее сообщив полученные данные в службу ПВО. А еще я себе представлял, что и наша кадровичка тоже у себя лежит и совершенно не думает ни о наших премиальных, ни о том, что в скором времени придется ей, вероятней всего, отдаться мне на промасленных телогрейках. Лежит у себя в комнате и Александр Петрович, и наверняка снится ему какая-нибудь «оранжевая Веревкина», которая сама по себе поразительный член профсоюза с авоськой, однако лишь с натяжкой похожа на Мэрилин Монро. И лежит на той стороне Атлантического океана Мэрилин Монро. Лежит посреди Голливуда кинозвезда белокурая и не догадывается, что в самой большой социалистической стране лежит ее неизменный поклонник и вздыхатель Тыквин Александр Петрович.
Я и о девушке из ближайшего Подмосковья тоже думал. Лежал и размышлял о том, что до встречи со мной она то ли была девственницей, то ли не была девственницей и что теперь делать, если все-таки она была девственницей. Придется сдавать в стирку простыню или не придется? Ведь если придется, то надо будет брать бюллетень у районного Ильича Гольденвейзера или отпрашиваться у Голубятниковой, чтобы до наступления темноты попасть в ближайший приемный пункт прачечной. Там грязное белье с нашитыми метками одна тетя сваливает в один большой ящик, а через неделю другая тетя в другом окошке, проверив квитанцию, возвращает чистое белье в перевязанной веревкой пачке.
Помимо ночных актов любви, перекуров, американской музыки и редких посещений прачечной, я из той давней жизни могу выхватить еще несколько примечательных эпизодов. Металлический грохот трамвая ранним утром, лавровый лист на дне кастрюли, соседа Бактюхова с чайником, афишу с Фернанделем, корявый график уборки квартиры, приколотый канцелярскими кнопками к стене, поющую соседку за стеной, дядю Петю Сандальева и его манеру всё подвергать сомнению, применяя такие непечатные выражения, как то: «Так я тебе и поверил, е… тебя в кочегарку!».
А в смысле денег еще раз скажу, что приходилось мне оплачивать электричество, сожженное в темное и пасмурное время суток. Такое бремя несет всякий, у кого есть старый ламповый радиоприемник, бугристый диван, лучший друг, голая подмосковная девушка и электрическая лампочка мощностью 60 свечей. Приходилось платить мне и за плюсовую температуру в чугунной гармонике батареи центрального топления. И за природный газ в плите.
Девушка в окне
Я был моложе в те безвозвратные дни, и мне приятно это осознавать. Я был значительно энергичней. За несколько секунд я, высоко подбрасывая колени, мог преодолеть несколько лестничных пролетов, не помышляя о том, что несусь, наверное, на 999-й этаж будущего «Отеля разбитых сердец». И примерно с той же скоростью умел я донестись по тротуарам центральной Москвы до нашего ближайшего «У летчиков» и за несколько минут до закрытия ворваться во влажную его духоту. Что тоже приятно мне осознавать, хотя приступы печали нет-нет да и сожмут мое сердце. И в силу славной, но утраченной энергии моей юности я догадывался о некоторых вещах, но далеко не обо всех. Я и теперь догадываюсь о многих вещах, но тоже не обо всех. Как могло получиться, что толпы геев и лесбиянок двинулись на Москву со стороны Аргентины? Как же так вышло, что останкинская колбаса в итоге оказалась сделанной из не совсем натурального мяса? А империя почему на части развалилась? Не потому ли, что далеко не всякий кусок говядины пригоден для любого способа приготовления? В то же время я убежден: если ранним свежим утром дворники не орут во дворе, то просто замечательно. А вот если мой друг во тьме кинотеатра сходит с ума от пухлых губ и особой манеры дурака валять, свойственной белокурой американской кинозвезде, так вдвойне замечательно. А вот если девушка из ближайшего Подмосковья встает с диванной потертой обивки и залезает на подоконник, то это и есть то самое главное и прекрасное, что отличает мой мир от всех остальных.
У нее и в самом деле маленькая аккуратная грудь с твердыми коричневыми сосками. У нее и в самом деле темный треугольник внизу живота, и мне приятно прикасаться губами к нежным волосам этого треугольника. А фигура у нее какая! Какая фигура! Так и тянет сравнить с песочными часами. Это тоже очень приятно. Ведь если она опять всё с себя снимет и встанет на подоконник, то… То кто-нибудь наверняка увидит ее точеную фигуру с улицы. И ежели невольным наблюдателем окажется дядя какой, молодой парень или взрослый мужик, то каждый из них обязательно позавидует, что в моей комнате к окну подошла и встала на подоконник такая вот красивая девушка с такими сосками, с такой фигурой, с таким треугольником внизу живота.
А вот – стройка, грязь, беготня, крики, соседи, мужики из нашей бригады. Они все – что такое?
Мне казалось, что все они – что-то не такое. Не то. Ну… Ну… то есть… То да не то. Ну, то есть… что-то другое. Не столь интересное, как, скажем, мой долговязый товарищ-студент или совершенно раздетая подмосковная девушка, во втором часу ночи забравшаяся на подоконник и показавшаяся в проеме окна. Она – это она, он – это он, они – это они. Она – сексуальная, он – зануда, они – давка в транспорте. А еще – мелкий осенний дождь и пронзительный северо-западный ветер, и бутафорский окорок за витринным стеклом. А еще – лица. Обычные лица сотен и сотен тысяч моих соотечественников, которые давятся в транспорте, не зная, зачем. Куда все ездят каждый день? С какой целью? А что касается Системы, которая каждый год готовится к всесоюзному общенародному торжеству, то и в Системе есть, безусловно, нечто систематическое и целенаправленное. В то же время есть в ней и что-то хаотическое. Словно движение, открытое Броуном, и нацеленное на усиление хаоса и чепухи.
Новые дела
Не только осень, а еще и эпоха отечественного тоталитаризма по-прежнему были в разгаре, и я ловил себя на мысли, что обязательно когда-нибудь обращусь к Александру Петровичу с цветным многоплановым сообщением о приключениях на работе и в жизни вообще. С тем чтобы хоть у него попробовать кое-что уточнить из непонятого раньше. Точнее, не обращусь. Я пристану к нему. Вечер; Москва; осень; праздники надвигаются; вскоре иллюминация загорится. Он входит в дверь, закидывает свою шляпу на крючок, садится на стул, собирается впарить мне что-нибудь про свою эрекцию или загадочный электроинструмент, а тут я, несмотря на усталость, со своими дурацкими вопросами принимаюсь к нему приставать. Помоги, мол, Александр Петрович хоть в чем-нибудь разобраться, а я тебе за это свой давний тайник в шкафу распакую и в твой граненый портвейна налью: ты ведь сам говорил, что хочешь стаканчик выжрать, так вот он! вот он! бери его и пей его! То есть не он ко мне, точно банный лист, пристанет с рассказом о гермафродитах или о своих приключениях в гулкой каменной ВПШа – я сам, почище банного листа, пристану к нему.
Увы! План мой был грандиозен по всем параметрам, но труден беспредельно. И прежде всего для реализации на практике: у товарища без меня своих дел полно. Давно уже, честно и непрерывно находится молодой человек в мучительном духовном поиске. Страдает по этому поводу, куда-то пропадает из дома, пытается за воздух схватиться. Он с раннего детства человек весьма изможденный, а потому он и по поводу Веревкиной фантазирует, и загадку своего появления на свет пробует прояснить, и эпиграфы к вкусной и здоровой пище употребляет. Я очень ему сочувствовал. Сам я в подобном поиске пока еще редко находился, хватаясь не за воздух, как он, а за желтый свет фонарей, как я. Я и за рассказы Сергея Львовича пытался зацепиться, и за надежду на премиальные, гудки на перегоне, за приземистую кадровичку, пьянство обоих наших плотников, за подмосковную девушку наконец. Я, правда, от себя не скрывал, что хоть за что-нибудь зацепиться пока не слишком получается. Поэтому лишь только лунный шар медленно выкатится на потемневшее небо над городом, так тотчас, наверное, я к Александру Петровичу сразу приду. Я вот возьму и поднимусь по каменной лестнице в квартиру на 6-ом этаже и ноги об коврик в прихожей тщательно вытру. Возможно, что и кепку на крючок определю, а то и прибор оптический Данжона к стене прислоню. И что-нибудь обязательно постараюсь у товарища уточнить, должно быть, не столько в материальном плане, а сколько в нравственно-духовном направлении. Возможно, что сразу не получится у меня. И потом тоже. Я поражение потерплю, я буду переживать. Я стану менее юн, красив, худощав, привлекателен, но более резок и раздражителен. Я осень стану ненавидеть, толпу, городской транспорт, мигание лампочек на фасаде Центрального телеграфа. Я перестану верить в заоблачную высоту «Отеля разбитых сердец» со всеми его 999-ю этажами, бетонными перекрытиями, внешним и внутренним оборудованием. Я отрывисто стану разговаривать с Сергеем Львовичем и скептически отнесусь к соседям по квартире. И совершенно не исключено, что товарищ, вместо важнейших для меня уточнений, продолжит свой восхитительный ликбез, и значительная часть ликбеза окажется по «Камасутре», которую ни один из мужиков из нашей бригады и в глаза-то никогда не видел, не говоря уж о том, чтобы на практике применить. А то еще возьмет и рванет товарищ мой от заскорузлых вопросов моих совершенно в ином направлении. Еще раз расскажет мне, например, про тяжелые кафедральные двери, опишет бюст Фридриха Энгельса на пыльной верхотуре или же заострится на проблеме неизбежной смены формаций. Опять и снова, спустившись с пыльной верхотуры в осеннюю Москву, он сообщит какие-либо потрясающие и, в сущности, земные подробности бурной и публичной жизни американских представителей киномира. Всего-то и нужно для этого два-три граненых, пельменем закусить и, сигаретку закурив, во всей верхней одежде улечься на свежую, белоснежную простыню, которую я когда-нибудь обязательно из прачечной заберу.
Потом дела навалились. С такой мощью и силой, что не продохнуть. Даже с маленькой девушкой из ближайшего Подмосковья фривольно на диване расположиться совсем никакого времени не оставалось, штанишки с нее снять, ножки раздвинуть, поцеловать, сами знаете, в область какого цветка. Конечно, сочувствующие взгляды со стороны соседей, и эта женщина, моя соседка, с вечным полотенцем на голове. Она пела, как Эдита Пьеха, но отчего-то по-итальянски. Однажды она, прервав свою песню, в присутствии дяди Пети Сандальева отозвалась:
- Такие трудовые подвиги у нашего Николая!
А дядя Петя Сандальев ей на это:
- Ну да уж! Е… его в кочегарку!
Верное и актуальное замечание. Мало того, что дядя Петя Сандальев при электрическом свете фигурировал в фиолетовой майке без рукавов, так еще я с оптическим прибором Данжона сновал, как дурак, по гигантской площадке, теряя ботинки и кожей ощущая ледяной холод неумолимо приближавшейся зимы. Вдобавок новое дело: на Ярославском перегоне сошел с рельс товарный состав. Нас сняли с объекта и бросили на ликвидацию катастрофы. Операцией руководил лично Сергей Львович. Он в сапогах и при всех орденах стоял на деревянном ящике из-под стеклянных бутылок и кричал: «Бревна в одну сторону, мазут в другую!».
Само собой разумеется, что часть осеннего времени пришлось потратить не на упорные размышления о будущих записках. О них что размышлять? Появятся – хорошо, не появятся – не очень хорошо. А в каком виде появятся – тоже не слишком важно. Так что массу бесценного времени ухлопал я не на свои размышления, а на быт и хозяйство. На то, чтобы помыть две вилки алюминиевые и оба стакана граненых. Пыль с моего лампового радиоприемника я вытереть забыл, а вот фикус из дудки чайника полил. Точнее, не я. Мой фикус из дудки поливала девушка с темным треугольником внизу живота. Она теперь приезжала ко мне и, приехав, снимала пальто. Потом она, по моей просьбе, ложилась на диван, вставала утром голая с дивана, надевала мои тапочки, мою старую ковбойскую рубашку и в таком виде делала утреннюю зарядку, которую транслировали по радио. Она аккуратно прибиралась на столе, каждый раз выбрасывая в мусор мою вчерашнюю «Правду». Я кричал, что какого х.. она это сделала, поскольку это, во-первых, ценнейший документ эпохи и мне еще предстоит по нему у нас в каптерке нашим мужикам политинформацию делать. Она садилась на диван и, уткнувшись в ладони, принималась шумно рыдать. Я успокаивал ее, нежно трогая пальцами волосы на ее затылке. Она переставала рыдать, шла и доставала «Правду» из мусора. А на лестничной клетке она постоянно намеревалась вытрясти мое красное ватное одеяло, которое я последний раз тряс за несколько дней до начала Культурной революции в Китае и за много лет до перехода нашей страны к частнособственническим хозяйственным отношениям. Но так и не вытрясла. «Я очень соседей стесняюсь, - стоя посреди комнаты в обнимку с одеялом, скромно сказала она. - Я ведь твоя еще не жена. Была б я жена, так и не думала б ни о чем. Я взяла бы и вытрясла. У нас на площади перед сельмагом всегда законные жены пыльными вещами трясут».
Любопытно отметить, что на той же площади перед сельмагом, о которой она мне рассказала, ни один местный и в самом сильном подпитии никогда не произносил слова, вроде:
Я буду твоим сладким тортом, негаснущей свечкой, взрывом шампанского, долгоиграющей пластинкой, букетом алых поцелуев, салютом страсти и любви, исполнением желаний и незабываемых впечатлений!...
А на закате будет тебе эротический массаж, и классический секс, и лесбийские игры, и разнообразные игрушки, и море удовольствий и утех.
Ошибка полковника
Я кое-что сообщил о том, кто прилетал, с каких берегов и с какой силой врезался в землю. Чью голову потом нашли и на каком расстоянии от эпицентра. Это отличный сюжет. Не понимаю, почему к нему не обращались СМИ тех лет. Остается дополнить его. Вот я его и дополняю тем, что Сергей Львович был весьма крупный, рельефный человек в фуражке без звезды, водонепроницаемой плащ-палатке и со своим зрелым, профессиональным взглядом на мир и действительность. Однако даже он не представлял, какую цель и кто преследует, затягивая сроки разметки. Ну, хорошо. Положим, к празднику всю площадку, какая за окном во всю ширь раскинулась, разметить, наверное, не получится. Она ведь, по одному из возможных замечаний Александра Петровича, как Швеция, - такая же большая. А хотя бы к декабрю? До начала пурги? До пурги получится или вновь не обломится? Вот ведь таинственный случай!
Михалыч, Шумелыч, Бубнилыч, Малафейкин, прочие мужики из нашей бригады являются свидетелями того, что полковник и им о том же говорил. Не могу сказать, что все они понимали его справно и окончательно. Кое-что сперва вроде собирались начать понимать, а потом закончить. Да и то совершенно не с той очевидностью, с какой я. Или как Александр Петрович, если бы с моей подачи он всё это понять захотел. И уж совсем не так, как два наших профессиональных плотника, Смирнов и Кузякин. Особенно в те дни, когда их общий длинный стальной гвоздодер пропадал куда-то.
Вскоре Сергей Львович получил еще несколько новых бумаг из рук в пух и прах разодетых приезжих. Все бумаги были примерно одного и того же содержания, но, несмотря на это, Сергей Львович настолько сильно стал теряться в догадках, что я и слов не найду, чтобы выразить его состояние. Принялся он теперь и по два раза на дню подходить к нашей приземистой кадровичке Голубятниковой. То с запада подойдет, то с востока. И всякий раз с тем чтобы у нее уточнить, когда… или, скажем, в какой день… в котором часу… она подпишет список на премиальные всему нашему личному составу. И, наверное, пользуясь случаем, он словно бы ненароком вдыхал умопомрачительный запах ее рыжей шубы из ненастоящей лисы. Наши мужики, заметив такое дело, стали придумывать различные небылицы. Волю фантазии давали и Макарыч, и Мочалыч, и Шумелыч, и Малафейкин, и Никанорыч. Но Смирнов с Кузякиным и тут всю бригаду обскакивать ухитрялись. Якобы своими глазами видели они Сергея Львовича, который за нашей каптеркой стоял на коленях и целовал полу рыжей шубы Натальи Николаевны. Она ему: «Ну что вы, полковник… Не надо так… Ну что вы… Вдруг люди увидят… Ну, что же вы, Сергей Львович, так на женщину давите…» В другой раз он догнал ее у входа в не до конца еще спроектированный отдел кадров и пообещал к ее ногам бросить всё самое лучшее и всё самое настоящее, что у него еще осталось в этой жизни, если она подпишет список на премиальные. Если же она его не подпишет, то он тогда не станет ничего бросать, а, ворвавшись в помещение каптерки, попробует застать ее в обнимку со мной на промасленных телогрейках.
Застать, возможно, и могло у полковника получиться, хотя вероятность события я бы переоценивать не стал. Вот я лежу в каптерке в ожидании восхода новой луны или захода старой, а тут дверь отворяется, и Сергей Львович с пистолетом врывается в каптерку. Однако меня в обнимку ни с кем не застает. Вот он опять врывается, но уже с ручным пулеметом, а мы уже закончили обниматься. Конечно, с моей стороны и мысли не было, чтобы обманывать Сергея Львовича. Я просто не представлял, что нужно мне сделать, чтобы застукал он меня в обнимку с приземистой женщиной, да еще и старше меня. Что же касается моих воспоминаний, то тут совсем другой поворот. Они у меня такого свойства, что запросто их мог бы украсить мой давний производственный роман на промасленных телогрейках. (Где он теперь?) Поэтому в узких промежутках между двумя гранеными я и настраивал себя на него. А еще на то, чтобы, выбрав подходящую минутку, продемонстрировать давнишнему товарищу моему, какая у Сергея Львовича кобура и как он носит свою старинную фуражку без звезды; как он ходит за мной и в затылок мне дышит; как открывает рот и кричит: «Где вас там, Армяков, опять с астролябией носит! Куда вы с прибором пропали!».
Всё дальнейшее – словно в кино. Москва летит в даль несусветную; и вроде – новый праздник какой-то; и ещё по пять гранёных; журавль с этикетки срывается и тоже куда-то летит. Мой шкаф сам собой открывается, аэроплан падает в море, и, подражая бывшему военному человеку, я под музыку из радиоприемника что-то кричу… И, натурально, Тыквин со стула встает. Он – модный и грамотный, голова без шляпы. Он поднимается во весь рост, и – руки к потолку: «Ого-го-го! Эге-гей! Эх, ма!».
А всё прочее…. Ну, не полный мрак – с огоньками. С отблеском фонарей в осенней воде.
«Арагац»
Во вторник, осенью того же года…
Во вторник, осенью того же года я впервые в жизни по случаю неполадок в вестибулярном аппарате взял бюллетень у нашего районного Ильича Ивановича. И не хотел же ведь брать, а вот поднялся по лестнице на 4-ый этаж ближайшего к подворотне многоэтажного диспансера, там и взял. Решил для себя: надо бы голубенький листок нетрудоспособности получить. Подустал паренек!
Примечательно, что Ильич Иванович был тем самым Ильичом Иванычем, известней которого не было никого не только на 4-ом этаже ближайшего диспансера, но и во всей центровой округе, кроме знаменитого памятника с шляпой. Кого где ни встретишь: «Ильичу кланяйтесь! Привет и наилучшие пожелания Иванычу Ильичу!». Оно и понятно. Он ведь всякого приболевшего тонко чувствовал, всю душу его. Иногда, правда, он внутренне замыкался, теряясь в догадках, откуда в нем столь уникальное качество, откуда в нем такая способность завидная. Иными словами, это был занимательный медицинский Ильич в образе сухопарого темноволосого Гольденвейзера лет сорока, в не слишком свежем белом халате и раздутых на коленях черных брюках. Всех, независимо от пола и возраста, он отправлял снимать штаны за белой медицинской ширмой. С отвращением глядя на ширму, он принимался кричать: «Ну, вы там сняли ваши штаны? Нет? Так чего ж вы медлите?!». Успокоившись, он русским языком объяснял, что, независимо от пола и возраста, все неполадки в организме лечатся одним способом: массажом простаты. Люди ему верили, и я в том числе. Он же, убедившись в правильности диагноза и записав что-то в историю болезни, обращался с дополнительной речью к больному. Говорил он просто, грамотно, умно и весьма зажигательно, и суть речей его доходила до сердца больного. Звучал термин: «синдром Мохова-Шикаренко», затем еще один: «что-то в носу». Употребив еще несколько более сложных терминов, он не менее зажигательно говорил, что даже самый качественный массаж простаты, производимый толстым и длинным металлическим инструментом за медицинской ширмой, спокойно можно и не за ширмой заменить двумя бутылками водки или одной бутылкой конька.
- И обязательно проследите, чтобы не меньше трех звезд на этикетке. А с «Арагацем» не приходите. Это – дерьмо. За «Арагац» я вам сделаю очень болезненный массаж. Я вам его обязательно сделаю. Я вам вот этим металлическим инструментом его сделаю, а после на работу выпишу. Как-то вы побегаете по строительной площадке с таким-то свербением в жопе?
Таким образом, вышел я от него свободный, как диагноз в бюллетене.
Стояла на улице прохладная, сухая погода. Летели последние листья. В городе – много людей, машин, домов, деревьев, всего остального. Дождь застучал по карнизу под вечер, до этого никто не слышал стука дождя. Луны не было: не успела взойти.
Девушка ко мне тогда не приехала из ближайшего Подмосковья. Мой с ней роман дальнейшего развития не получил, получив его позже.
Уже смеркалось в столице, и уличное освещение зажигалось, когда ко мне пришел Тыквин.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Молодость и война
Он пришел без звонка. Он был прилично одет: манжеты, плащ, ботинки, шляпа. Он широко распахнул дверь, впустив в комнату липкий запах наваги из коммунального коридора. Он мне сказал, что увидел свет у меня в окне и вроде бы обнаженный женский силуэт на подоконнике. Однако, повнимательней приглядевшись, он для себя решил, что силуэт ему показался.
- Да. Он тебе показался, - подтвердил я.
- А если нет?
- Тогда не знаю.
- Тогда и я не знаю.
Сказав это, он не закинул, а просто повесил свою шляпу на крючок.
Сидя затем на стульях под моей лампочкой, мы с ним, поставив локти на стол и подперев щёки кулаками, минуты три молча смотрели друг на друга.
- Послушай-ка, Александр Петрович…- сказал я, преодолев молчание.
- Что тебе, Армяков?
- Я знаю, что ты очень неглупый человек.
- Да уж. Что правда – то правда.
- Тогда скажи мне такую вещь…
- Я тебя внимательно слушаю.
- Вот наша с тобой молодость. Она – что такое?
- Она, Армяков… - Он встал и, подойдя к шкафу, дотронулся сперва до правой створки, затем до левой. – Она – не что такое. Она – явление яркое, незабываемое и в чём-то почти бесконечное, - произнес Тыквин.
- Не может быть!
- Может. У нас с тобой всё может быть. Мы – люди такие, чтобы с нами происходило что-нибудь из ряда вон выходящее. И ты обязан меня поддержать в моём постулате. Поддерживаешь ли ты меня, мой друг подручный?
- Ага, - сказал я, – я тебя во всем поддерживаю.
- Спасибо тебе, - сказал он. – Спасибо! Я всегда знал, что ты мне полностью доверяешь. Вот только, Коля, душевного задора у нас с тобой иногда не хватает… Зато много опасностей. Их нам сама жизнь постоянно подсовывает. Я в этом, знаешь ли, уже прилично разбираюсь… Поднаторел, можно сказать. Книжек и словарей начитался. А в остальном – все тип-топ. Праздник почти каждый день на нашей с тобой улице, хотя главный, конечно, еще впереди.
Тут мы с ним кое-чем закусили из сваренного мною в эмалированной хозторговской кастрюле, и я без всякой связи с предыдущим решил опять преодолеть свое обидное молчание и спросить его о том, что было тогда у всех на слуху.
А на слуху тогда у всех что было? Мир, война, колонизаторы в Африке, американцы в Азии, евреи в Израиле. И, безусловно, надвигающийся на всех коммунизм. И стабильные цены на товары первой необходимости. Включая брюкву, мочалки для мытья посуды, пельмени в пачке, железные гвоздодеры, чайную заварку, газеты, шапки, куриные яйца, спички, хлеб, геркулес, перец, макароны, соль, вёдра, трусы, электрические лампочки, хозяйственное мыло, чугунные сковородки.
- Ну, а «холодная война»? – спросил я без всякой связи с предыдущим, хотя тоже о том, что было тогда у всех на слуху. – Это, по-твоему, что такое?
- А что? Что «холодная война»? - сказал он важно. – Это тебе, Армяков, не сухопутная война с Америкой или, в частности, с Китаем. Штука-то более сложная. Штука-то не какая-нибудь, а сугубо империалистическая, хотя и наши тут руку тоже приложили. Эта война давно началась. Ещё тогда, когда мы с тобой находились в нежном детском возрасте. Оба мы в связи с младенческим анурезом в кровать писали, и под стол пешком…. Ну, ты сам понимаешь, человек-то ещё маленький, он имеет полное право под стол пешком, а также в детскую кроватку нассать. А закончится эта война или не закончится, об том не мне судить, и уж явно не тебе. Наверное, случится. Да, обязательно случится. Но потом. Уже, наверное, тогда, когда все наши приключения подойдут к их логическому завершению.
Не назвав хотя бы приблизительной даты завершения наших с ним приключений, он встал и прошелся по комнате. Остановившись у шкафа, он потрогал обе створки и, повернувшись ко мне, стал говорить, что, вообще-то, проблем в жизни навалом, однако некоторые из них – глупее не придумаешь. - «Почему?» - «А потому, что мы сами их себе изобретаем, а после бегаем, суетимся, мучаемся, болеем и впадаем в панику. Сами решить ничего не можем. Вот и страдаем на этой почве… Вот ты у меня спросил, что такое «холодная война». А она, между прочим, одна из самых великих войн за всю историю человечества, если не самая величайшая. Это тебе не Батый с его крикливыми ордами и не холодным шведам по заднице под Полтавой настучать. Её по радио начал один толстый английский аристократ, Уинстон Леонард Спенсер Черчилль: известная Фултонская речь. А идет она поэтапно, и каждый этап представляет собой крайнюю степень выражения чьей-нибудь державной воли: от Сталина до генерала Эйзенхауэра и подавившего венгерское восстание Ю. В. Андропова». И, чтобы придать вес словам, он ещё пару гранёных залпом выпил и еще несколько фамилий назвал. Все они оказались фамилиями популярных государственных деятелей, какие тоже где-то чего-то подавляли.
Трава желтела, лес темнел, гудки на перегоне раздавались, плотники пили, а бумаги всё приходили и приходили… Их привозили люди на автомобилях, а то и доставляли с нарочным. Пешком. Или на велосипеде. Одну за другой. А дело не двигалось. И Сергей Львович, на что уж мужественный человек и – вы уже поняли – мой непосредственный начальник, всё больше курил и всё чаще входил в каптерку с одними и теми же словами, не часто попадавшимися раньше в его лексиконе:
- Однако же… Какого члена!
А с другой стороны?
- Ты понимаешь, Армяков, один елдак приперся в кинотеатр, здоровенный такой, и морда красная. Сел впереди и весь экран загородил. А я-то, ты сам знаешь, человек тонкий, культурный, информированный. Я и почитать обожаю о том, о сем. О людях, о борьбе, о нравственном поиске, о мужестве, о любви. Я и в кинематограф сходить очень люблю. Я очень киношку обожаю поглядеть. Со звуком и в цвете. И чтобы двадцать четыре кадра в секунду. Эх, хорошая у американцев киношка!
А порой, должно быть, ради того, чтобы еще раз в чем-то убедиться, он заглядывал за квартирный одежный шкаф, похожий на деревянный «Отель разбитых сердец» с грудой картонных коробок на крыше. Из-за шкафа он мне кричал: - «Докладываю тебе, Армяков: есть и такая жизнь на свете. Есть же ведь она такая!». И… выносил на вытянутых руках из-за шкафа какой-то портрет. На портрете был изображен круглолицый улыбающийся мужчина с подбритыми усами и в маленьком стеклянном пенсне. Что бы крикнул Александр Петрович теперь? Какими словами? Чей бы вынес портрет?
После обнаружения «жизни» в пыли за одежным шкафом он уносил портрет, обняв его обеими руками, и оказывался опять на диване.
Тут ночь кончалась. Бледнело окно в комнате.
Легендарные этикетки
В который раз сам себя спрашиваю: виной ли всему был не всегда доброкачественный портвейн тех лет? Но ответа не слышу. А почему? А потому, что вина портвейна никем не доказана, и вряд ли найдется гениальный специалист, способный доказать вину портвейна и десятка полтора известных всему поддающему человечеству бумажных этикеток.
Возможно, их намного больше было. Возможно… Вплоть до редко встречавшейся этикетки с изображением румяного мордастого солдата в краснозвездной каске - «Казарменное крепкое». Не секрет, что портвейн с этикеткой «Веселый камикадзе» никогда и нигде не встречался. Если бы встретился, я бы вам обязательно рассказал.
Каждая из этикеток, кроме уникальной цветовой гаммы, содержала важную информацию, касавшуюся спиртовых оборотов, наличия сахара, о заводе-изготовителе и даже о танкере с жидким алжирским вином, куда добавили еще один танкер спирта, чтобы получить густой и мощный «Солнцедар».
То – легенда. А на практике?
На то и практика, чтобы портвейн занимал свое законное место в судьбе человека. Не исключаю и настоящий, доставленный к нам неведомыми путями с его теплой и влажной родины. И еще какой-то вдохновенно-омерзительный напиток, являвшийся изобретением жизнерадостной Веры Матвеевны, родной супруги знаменитого центрового алконафта Бориса Федоровича. Короче говоря, напитки были разные, но все очень емкие и целенаправленные. И в чем-то романтические. Для нас же, имевших на все свою точку зрения, это были напитки очень выразительные. Это были напитки желанные, страстные, классические, приятные, честные, немножко грустноватые и сладковатые на вкус.
Очередную бутылку с одним из таких многогранных напитков я с открытой душой, хотя и в тайне от Тыквина, хранил в безмолвных сумерках своего деревянного шкафа. В виде заначки. Под нательным бельем. На всякий случай. А вдруг на закате московского столичного дня вновь надумает посетить меня мой знающий товарищ? Вдруг с визитом завалится? Вдруг пробор свой набриолиненный, и шарфик свой в дверях покажет? Какой тогда праздник будет опять на нашей полузабытой улице? Каким восторгом озарится центр великого города?
Добавлю к этому, что стеклянную бутылку за 1 руб. 47 коп. (мог бы и подешевле) я приобретал в свалке и духоте старинного гастронома «У летчиков». Приличный был гастроном. Достойный демонстрации в хроникальном киножурнале «Новости дня». Судите сами: люстра с 256 электролампочками в матовых круглых плафонах и рослые напольные часы с малиновым звоном и медленным громадным маятником.
Прозрачную вкусную водку в бутылке с крышкой типа «центровой козырек» я приобретал там же, но в еще большей свалке и более густой духоте.
ЧАСТЬ II
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Душевный отклик
Тени бродили по двору. Редкие звезды проглядывали сквозь ветки деревьев, терявших последнюю листву. Где-то кто-то о чем-то кричал. Протяжно и бессмысленно.
Кончался октябрь. Я себя уверял, что из-за непрерывной беготни мерещится мне в осенней Москве нечто напоминающее сумбурные записки под душевный возглас.
А еще я надеялся на ближайшее окончание затянувшегося ожидания. Чего жду?
И вот однажды…
Однажды стоял я возле стеклянной витрины: два манекена за толстым стеклом. Рослая красивая женщина в черных кожаных перчатка мимо прошла. Я оглянулся. И опять поймал себя на мысли, что чего-то жду. Чего же именно? Прошлого или будущего? Каких новых праздников? Каких приключений? А может, я жду, что вот еще пара-тройка деньков пройдет, и наступит предельная ясность по срокам окончания разметки, а в нашем дворе – очередное полнолуние. Полковник, наконец, добьется у нашей кадровички, чтобы она весь список подписала на скорейшую выплату премиальных, и станет забывать жестокую причину своей давней контузии.
А возможно, что никакого полнолуния не наступит. Полковник ничего не добьется и, несмотря на тяжкую свою контузию, ничего не забудет. Зато парадная дверь с натуженным скрипом распахнется, и выйдет из подъезда долговязый молодой человек в пальто с бархатным воротником, в рыжей меховой шапке, похожей на птичье гнездо и что-нибудь крикнет. Протяжное. Кинозвезду своим именем назовет или какой-нибудь душный кабак поточнее определит, не позабыв про контрабас с облезлым боком. Намекнет на заначку в шкафу. И сразу увянет, намекнув на неё еще раз и не обнаружив живого отклика в душе подручного Армякова, то бишь в моей душе. Если же никто из подъезда долго не выходил и, следовательно, ничего протяжного не кричал, вроде: «Так где же пузырь твой заветный?», я начинал теряться в догадках. Где же товарищ? Что с ним?
Я сильно скучал и с этим выражением вставал с дивана и под звуки утренних упражнений по радио на работу ехал. Вскоре полковник в своем ослепительном, но поношенном осеннем обмундировании входил в служебное помещение. Он спрашивал:
- Вы, Армяков, с оптической астролябией Данжона сегодня куда-нибудь побежите?
- Обязательно, Сергей Львович!
- Но ведь этого очень не хочется вам?
- Очень не хочется, Сергей Львович!
А вечером моя любимая Москва казалась мне беспросветным захолустьем с кривыми улочками, покосившимися домами и непролазной грязью вместо широких асфальтированных автомагистралей. Чтобы избавиться от скорбных ощущений, я готов был простить Александру Петровичу всё. Все обиды, которые наносил мне он, а обижался на него я. И пусть не выглядит преувеличением, если скажу, что я уже готов был постелить на подоконник вчерашнюю газету «Правда», встать на нее обеими ногами, открыть форточку и в нее закричать на весь двор: «Тыквин! Александр Петрович! Ну, где ты там?».
Донес бы что-нибудь в ответ промозглый столичный ветер?
Комната на шестом этаже
Так и не дождавшись ни полнолуния, ни ответа на свой вопрос, удачно сформулированный в форточку, я решил для себя, что надо бы с духом собраться и хотя бы во время обеденного перерыва рассказать полковнику выдающиеся подробности, связанные с дамской розовой комбинации на спинке стула. О розовой и шелковой комбинации, сыгравшей столь важную роль в жизни моего товарища и ускорившей его возмужание. Не рассказал. Несколько раз в присутствии Сергея Львовича я собирался приступить к своему подробному рассказу и даже рот открывал. И тотчас закрывал. Казалось мне, что за окном погода не та, да и Сергей Львович еще не готов к моим прямолинейным намекам. К тому же он настолько обеспокоен состоянием дел на площадке, что обязательно в густом табачном дыму за револьвер схватится, представив реальное происхождение розовой комбинации на спинке стула. Так что за револьвер он тогда не схватился, о чем я до сих пор не жалею.
Потом был вечер, и думаю, что вечер того же дня. Я пересек двор и скромно стал подниматься по ступеням парадной лестницы подъезда, где на шестом этаже находилась высокая коленкоровая дверь в квартиру моего товарища.
Тени давних жильцов сопровождали меня. Медленно, мягко и красиво где-то пел бессмертный американский певец нашей юности. Голосом бывшего водителя грузовика.
Минуя пролеты и узкие пыльные окна на площадках, я дошел до шестого этажа. Я позвонил в электрозвонок на коленкором обитой двери. Дверь отворилась внутрь квартиры. Светлая полоса на полу расширилась. Переступив ее, я оказался в небольшой прихожей. Шапка та же и на той же вешалке. Я вытер об коврик ноги, чтобы дряни какой в квартиру с улицы не занести; долго и молча мял свою матерчатую кепку в руках. Был слышен сухой треск пишущей машинки. Затем какая-то тень метнулась от меня и пропала в сумраке коридора. Знакомый, чуть надтреснутый голос откуда-то из глубины помещения спросил:
- Это ты, Армяков?
- Я, - сказал я.
- Тогда привет тебе, мой друг подручный! Ты знаешь, я ведь больше не пью.
- Ну да?!
- Ты понимаешь, мне с некоторых пор жить страшно. И ты так не смотри на меня, не смотри… Да, очень страшно… Лежу и думаю, что семь минут, и всё – вот она ядерная боеголовка, вот она в форточку залетела и разбила портрет. Но и это еще не весь мой кошмар. Скорее всего, боеголовка в форточку не залетит, а портрет всё равно разобьется… А вот в рвотных массах захлебнуться очень легко. Да, я очень теперь боюсь в рвотных массах во сне захлебнуться. Какое же, едрёна шишка, будущее тогда у человека, ежели человеку в юности в рвотных массах захлебнуться?
Сказав такое, он с дивана не встал. Повернувшись ко мне, он поглядел на меня такими глазами, с такой пронзительной печалью, что я испугался обрисованной им кошмарной перспективы. И что-то вдруг померещилось мне. Не помню, что именно; вроде бы слова еще одного какого-то нашего разговора. Какого? Их было так много… Вскоре я с этим справился, вернулся к действительности и услышал город за окном… Затем стал взглядом комнату обводить…
…Комната была почти такой же давней и огромной. Стулья, стол, диван, часы на стене. Темный комод. На комоде – фарфоровый белый лебедь. Углы дальние в тумане, а ближние в чем? Я видел, что всё в комнате вроде на тех же местах, что и несколько дней назад. Люстра, и пять в ней матовых рожков; и другие вещи. Его мама курит папиросы «Фемина», и сладок запах курящей женщины с алой гвоздикой в черных, словно южная ночь, волосах. Она сидит на стуле в своем вечернем платье с глубоким декольте и конкретно трудится на пишущей машинке за полинялой шторой на деревянных кольцах. Ламповый радиоприемник зеленым глазом молча подмигивает мне. Словарь «иностранных слов» в коричневом ледерине лежит на стуле. Фотографические изображения (около десяти сюжетов) в рамах на стене висят, рассказывая какую-то свою безмолвную историю в черно-белых картинках.
Пока я разглядывал комнату, Александр Петрович в своем «джазовом» пиджаке и с закрытыми глазами лежал на спине, сложив руки на груди, и периодически тяжко вздыхал. Лишь на три-четыре секунды показалась в дверном проеме заокеанская киноактриса. Тотчас внезапный порыв ветра унес ее, и выдающаяся американка с криком «Я вам никакая не Веревкина!» пролетела, плавно взмахивая руками, через всю комнату – в белом платье с куполообразным задранным подолом, и я, от неожиданности открыв рот, увидел резинки, на которых держались чулки легендарной блондинки, и то, что на ней нет трусов… Она бесшумно пронеслась сквозь оконное стекло, его не повредив, и пропала в осеннем небе, а я, подумав о нас и нашем расшатанном духовном самочувствии, на стол поставил то, что во внутреннем кармане принес, и сказал ему, чтобы он не шибко расстраивался. Это я ему сказал с матерком, а то как такое без матерка-то скажешь? И вот я ему (с матерком): «Чушь всё это, и жизнь не в этом состоит, мать ее по голове!». А он мне (не без матерка): «Мне, Армяков, и без тебя известно, что чушь. Я сам знаю, что чушь всё это, мать тебя по голове. И ты меня не стремись убедить, что жизнь не в этом состоит. Но… я ведь больше не пью».
- Ну да?!
- Сказал тебе, что не пью – значит, не пью.
И тут мне стало не по себе. Мне показалось, что я только лишь собирался его о чем-то спросить, а он мне собирался что-то ответить.
Вскоре я свою кепку матерчатую на крючок повесил, подумав, что забыл ее повесить сразу после своего появления. Определив ее на крючок, я пару шагов по комнате сделал и тихо другу сказал, чтобы он кончал на диване лежать и лучше бы радиоприемник включил. Все-таки под музыку размышлять о том, что в этой жизни чушь, а что не чушь, посподручней будет. И он, не открывая глаз, мне медленно и почти равнодушно: - «Поди сам и включи. Забыл, как ламповые радиоприемники включаются? Я ведь тебе сказал, что ни капли в рот не беру».
Было ли что-то еще?
Да, было что-то еще. Что-то похожее на сладкий, липкий, счастливый кошмар безответной любви, встречавшейся в те времена повсюду, но особенно часто под крышей «Отеля разбитых сердец» (дом неподалеку так назывался?). Однако по-прежнему не склонен я сваливать всё на материальные или духовные основы мироздания. Этим пусть занимаются другие, хотя трудно мне отделаться от мыслей об основах. Мучают меня до сих пор эти мысли. Тревожат они мое сердце.
Вот радио. С шести утра до двенадцати ночи любимое детище Александра Степановича Попова и знаменитое чудо Гульельмо Маркони транслировало всё. Всё, чем жили в то время люди, и то, чем никогда не жили они. От «Последних известий» до «Пионерской зорьки», от «Утренних упражнений» до обзора центральной «Правды». А в радиоверсии известной театральной постановки знаменитый американский фантаст приезжал в гости к не менее знаменитому кремлёвскому мечтателю. Фантаст с мечтателем сидели в кожаных креслах до поздней ночи. Они обсуждали глобальную народнохозяйственную разруху и возможные пути выхода из неё.
Слышу я до сих пор не только про разруху, а что-то вроде американского романса «Люби меня нежно». Романс не погиб: мы чуть было не погибли. Слава богу, что не погиб еще один романс: «Мы простимся на мосту».
Я слов этой песни не помню. Наверное, у меня что-то с памятью, которая не дает мне возможности воспроизвести здесь чудесные слова прощальной песни. Помню, что под музыку нашей юности Александр Петрович очень боялся в рвотных массах захлебнуться. Не знаю, откуда данное опасение на него находило. Думаю, что он был прав в страхах его и предчувствиях. Музыка тут ни при чем.
Не могу отрицать и своего периодически возникавшего желания рассказать товарищу про дымную шашлычную на углу, про бельишко дамское нательное, про то, как пальто в темном подъезде на ступеньках расстилал, про огонек сигареты в вечернем окне и о «цветке любви»: какой он влажный, нежный, желанный и весь такой привлекательный у сероглазой девушки из ближайшего Подмосковья.
А в преддверии всесоюзного празднования победы вооруженного пролетариата над не менее вооруженной буржуазией я ему кое-что собрался рассказать о драматических событиях на работе. Штрихи к ним добавить, детали, подробности, новый звучок в события подпустить. Что там да как. Как петли дверные скрипят; как мужики базлают; как мы с полковником сидим, и он мне что-то говорит, говорит, говорит…; и глубокие сумерки за окном, и огоньки мерцают… Хотя не всё, далеко не всё, я собирался добавлять, да и не слишком внятно. Так, в одну десятую внутренних возможностей моих, казавшихся мне недостижимыми.
Однажды он позвонил и отчего-то не стал в подробностях воспроизводить очередной случай ни в западном конце учебного коридора, ни за тяжелой кафедральной дверью. Он стал меня спрашивать о чем-то более серьезном, давно уже наболевшем. А под конец спросил, каким образом я ухитряюсь терять свой ботинок в грязи, а потом нахожу его на дне свежевырытой траншеи, в ста метрах от того места, где потерял. Я ему сказал, что такое со мной случается не постоянно, а если и случается, то нет тут ничего зазорного, так что пусть он в таком тоне не отзывается о моей трудовой деятельности. Он пообещал не отзываться и тут же отозвался.
Я повесил трубку.
О радио еще раз скажу: со школы я знал, что радиоприемник в моей комнате работает на электрических лампах и конденсаторах. Вместе с тем я не понимал, почему советские волны эфира прозрачные, а несоветские – мутные: их же не видит никто. И те, и другие. Зато есть голоса, есть разные звуки музыки – нашей и не нашей. Их мы и слышим. А никаких волн мы не видим. Их как бы не существует. То есть они, конечно, существуют, поскольку, по словам ученых-физиков, явление физическое. Иными словами, происходят своеобразные колебания в окружающем нас пространстве. Частота колебаний соответствует той частоте, на которой вещает та или иная радиостанция. Отсюда и названия: средние волны, длинные, короткие, ультракороткие… Стало быть, это просто радиоволны и больше ничего. Они не могут быть ни мутными, ни прозрачными, ни красными, ни зелеными, ни желтыми, ни какими-либо иными.
Похожего мнения придерживался и Александр Петрович Тыквин, утверждавший довольно-таки парадоксальную вещь. Оказывается, если бы Александр Степанович Попов не оказался ротозеем и вовремя оформил патент на первую в истории человечества передачу радиосигнала из одной комнаты в другую, то тогда бы Маркони наверняка, подобно фанере над Парижем, пролетел со своим спорным первенством в данной области. «Это еще раз доказывает, что у нас в стране можно быть кем угодно, но только не мудаком. Мудак он и есть мудак. С него взять-то чего? Он в нашей стране мимо патента всегда пролетит. Его обязательно какие-нибудь итальянцы опередят».
Добавлю, что не только у Александра Петровича, а и у меня дома был отличный ламповый радиоприемник, который, по-моему, уходил всей конструкцией аккурат в историю с передачей радиосигнала из одной комнаты в еще одну. Пегий слой пыли на верхней крышке и следы от пальцев, не уходившие в историю. Зато электронные лампы настолько основательно гудели внутри, что вспоминался «книжный» вопрос: «А чегой-то у него внутре за лэпэче?».
Несмотря на это, прибор хотя и ламповый, но еще очень хороший. Он и украшение комнаты, и удобная подставка для чего-нибудь, что можно с открытым сердцем поставить на радиоприемник в деревянном коричневом корпусе трофейного происхождения. Он стоял на полу, и давно уже не звучал в нем «голос войны». Не помню, сколько лет. Наверное, в последний раз он заговорил этим голосом о капитуляции Японии, а с нею и об окончании Второй мировой войны.
С тех пор много лет прошло. И в мирное время загадочно и таинственно светился его зеленый стеклянный глаз в моей заставленной комнате.
Возвращение
Я знал, что дома, в самом центре Москвы, жизнь тоже беспокойная, а не только в нашей компактной деревянной каптерке. Это – одно из самых правдивых наблюдений, изложенных мною письменно в моих же записках.
В самом деле: соседи спят, кричат, ругаются, поют, кастрюли ставят на газ, по коридору ногами шаркают, по телефону звонят, собственные сны пытаются разгадать. Дядя Петя Сандальев фиолетовую майку без рукавов надел и в ней в коридоре бесчинствует. Плоский сосед Бактюхов с чайником туда-сюда шастает. Женщина за стенкой поет. А потом, неотвратимы сроки уборки в местах общего пользования. Удастся ли мне выписать девушку из ближайшего Подмосковья? Будет ли согласна милейшая небольшая девушка убирать чужое говно?
Она, эта жизнь в многонаселенной общей квартире, конечно, поуютней. Потише, чем в каптерке, куда набивалось не менее семи мужиков, куривших дешевую «Приму» без фильтра и сушивших носки на изогнутой железной трубе местной буржуйской печки.
Да, жизнь дома поспокойней… Несмотря на отчетливый запах наваги из кухни. Настолько отчетливый, что навага плавала в нем. С выпученными от страданий глазами она выплывала из коммунальной кухни в общий коридор и, проплыв мимо корявого графика уборки мест общего пользования, поворачивала в обратную сторону.
Еще одно мое убеждение.
Если человеку на роду написано по вечерам возвращаться со службы домой, то почти уже счастье. А вот если написано человеку бегать с оптическим прибором Данжона на свежем воздухе, иногда добегая по грязи и пожухлой траве почти до Ярославского перегона, чтобы послушать гудки, то тогда человек тоже счастлив, но уже поменьше. Вместе с тем человек служит делу. Он непрерывно работает. Все его чувства обострены. Настолько, что он способен догадаться, что казенные оптические приборы Данжона иногда крадут, из-за чего предпочтительней их в прокуренной каптерке не оставлять никогда. Сергей Львович об этой производственной особенности говорил мне со свойственной ему прямотой. На другой день он из-за давней контузии забывал о том, что говорил мне накануне и опять спрашивал, где меня носит с прибором. Однако к вечеру он всё вспоминал и, по обыкновению, указывал на привезенную кем-то свежую официальную бумагу, а затем на обидную ошибку дальневосточной службы ПВО. Стал высказывать полковник и свое практическое соображение о том, что астролябию, как и плотницкий гвоздодер, обязательно сопрут, если я ее хотя бы на некоторое время выпущу из поля зрения. К этим его соображениям я вскоре привык, и меня можно было видеть с оптическим прибором в городском транспорте и на улицах города.
Вернувшись с работы домой и поставив астролябию в угол, я садился кушать, к примеру, толстые мучные макароны с мясом или, скажем, мясные пельмени, которые я из бумажной пачки высыпал в кипящую воду в кастрюле, где уже плавал лавровый лист и просматривалось несколько горошин черного колониального перца. Покушав еды, я принимался пить темный, не слишком душистый чай, собранный на просторах грузинских плантаций и высушенный женщинами на московской чаеразвесочной фабрике.
Радио, ежели, как говорится, х.. забить на электротехнический глушитель на просторах Польши, чудесно пело медленный американский блюз, и давний мой школьный пиджак висел под блюз на спинке стула. Обычные городские звезды светились за окном. Луны пока не было. На вчерашней «Правде», на слове «Вперед!», расстеленном на столе, лежали две вилки из алюминия и моя коричневая расческа с тремя отломанными зубьями с правого конца… Боже мой, как давно это было! Голоса каких зарубежных радиостанций мне удавалось поймать!
Были и другие голоса, другие городские огни, другие прохожие под другими зонтами, в других пальто и других плащах. Шел поздний октябрьский дождь. За холодным вагонным стеклом назад уносились огни подземного тоннеля. Имели место две пересадки на станции «Комсомольская». Пахло влагой, тоской и гостями столицы.
Я приехал к себе на 3-й этаж усталый и на что-то злой. Я слышал грохот города, гудки на перегоне. Мерещился бывший военный человек в фуражке, слова его невероятного рассказа про войну. Мне не хотелось включать радио, но я его включил – по привычке. Зазвучала мелодия под названием «Отель разбитых сердец». Отличная медленная американская песня! Электротехнический глушитель в Польше, слава богу, не работал: грач в вентилятор попал.
В ритме этой мелодии я сел кушать толстые макароны с мясом, и чай пить тоже сел.
Примерно в середине ужина дошла до меня весьма неприятная информация. Не хочу вспоминать, в чем она состояла. Она была в чем-то похожа на то, что слышал я раньше и что мог услышать потом. У нас обожают что-нибудь для человека неприятное по радио передать. То авиакатастрофа в безоблачном небе над Средиземном морем, то кто-нибудь патент вовремя не оформил, то Иосифа Виссарионовича Сталина из Мавзолея ночью вынесли, то сливной бачок у нас в уборной сломался, то вся огромная империя на части развалилась, то рубль, как в 1961-ом, раз в десять подорожал. Деноминация!
А задолго до развала империи один дядя у нас в квартире совершил крайне неприятный для окружающих акт смертельного суицида. Акт имел место в четверг, сразу после вечернего выпуска «Последних известий». До суицида я неоднократно встречал соседа по ночам в районе нашей коммунальной кухни в наброшенном на голое тело сером пиджаке. Он мне говорил в коридоре:
- Что, брат, и тебе не спится?
Стрельнув у меня закурить, он шел дальше, доходил до угла и, постояв там какое-то время, поворачивал назад.
- Хотел вот чайник на газ поставить, - бормотал он, проходя мимо меня. – Теперь подумал: ну его в баню. Надо спать ложиться. Зачем человеку всю ночь колобродить?
Он медленно шаркал по крашеным доскам общего коридора, и ручка чайника поскрипывала при каждом шаге. Фамилия соседа была Бактюхов. Да… да… вот именно… Бактюхов… Высокий и плоский, как дверь, с серыми печальными глазами. Зачем он в начале ноября 197… года, за несколько дней до начала официальных праздничных торжеств свой брючный ремень прицепил никелированной пряжкой к крючку на потолке?
Жильцы в квартире сильно расстроились. Они долго и тяжело вздыхали, не зная, что говорить друг другу. За них дядя Петя Сандальев сказал: «Вот ты, е… его в кочегарку!». И тут же, словно всех прорвало, и понеслось по коридору: «Праздники на носу, пора винегрет сметаной заправлять, а тут Бактюхов удавился!». Их можно было понять. В видавшей виды советской квартире, удачно пережившей все самые сложные и противоречивые периоды становления народного государства, такого не случалось с времён сенсационного ареста Берии Лаврентия Павловича. Тогда тоже вроде кто-то повесился на брючном ремне. То же самое произошло и после знаменитой разоблачительной речи Никиты Сергеевича Хрущева на закрытом пленуме ХХ-ого съезда КПСС. Затем – когда рубль раз в десять подорожал. Еще раз, кажется, в 1968 году, когда евреи на арабов напали с целью их победить в Шестидневной войне. А по случаю подорожания зимних шапок из меха кролика никто, конечно, не стал прицеплять свой брючный ремень никелированной пряжкой к крючку на потолке. И в связи с началом Культурной революции в Китае, и по случаю столетнего юбилея Владимир Ильича Ленина, и когда с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые отечественные «Жигули» итальянской сборки. Кого-то из жильцов арестовали, когда Александра Исаевича Солженицына, великого писателя, выдворили из СССР. Соседи были в шоке. Они говорили: - «Ах, кто бы мог подумать! Кто бы мог вообразить, что такой тихий, законопослушный человек станет читать по ночам что-то сугубо пошлое и сугубо клеветническое!».
Друг же мой и товарищ детства придерживался противоположного мнения. Он, знавший теперь, по его словам, наизусть всю «Камасутру» со всеми ее цветными иллюстрациями, мне откровенно говорил об этом. А по поводу предпраздничного суицида, имевшего место у нас в квартире, он мне сказал:
- Подумаешь! Ну, прицепил мужчина свой брючный ремень никелированной пряжкой к крючку на потолке, а мог бы и не прицеплять. Мог бы просто и по-человечески застрелиться.
- Прости, но зачем же стреляться?
- Да мало ли зачем.
- А где бы пистолет он взял?
- Ну! Захотел бы, точно взял!
И, выразительно оглянувшись на темный громоздкий комод, добавил:
- Взял бы… Обязательно!
Лишь после поминок, состоявшихся у нас в квартире сразу после похорон соседа на предпраздничном и холодном Хованском, я, стоя с грустным лицом под сушившимися на верёвке огромными дамскими панталонами, узнал, что около десяти лет куда-то писал Бактюхов свои длинные письма, якобы связанные с постоянными неполадками в сливном бачке и кражей лампочки над подъездом. Тщательному и подробному написанию подвергалась и его жалоба на одну из наших соседок, лет десять подряд сушившей в кухне свои громадные салатовые панталоны. И когда Бактюхов приходил в кухню ставить свой чайник на газ, то по зову судьбы попадал лицом в эти панталоны, после чего начинал испытывать приливы ненависти к людям. Ночью он видел во сне бесшумно надвигавшийся на него огромный грузовик. В присутственных местах, куда он относил свои жалобы, ему говорили, что советская женщина – это советская мать. Это – счастливая труженица. Поэтому она никогда не станет публично вывешивать свои нижние штаны. Наконец, в какой-то комнате, где на подоконнике и на полу находились толстые канцелярские папки, и стоял шкаф с пыльными стеклами, ему один приятный старичок с лисьей мордочкой сказал: «Завтра будет рассмотрено». Но ни завтра, ни послезавтра никто ничего не рассмотрел, да и приятный старичок куда-то запропастился, будто не было совсем ни его самого, ни его лисьей мордочки. Бактюхов же к тому времени сильно пообносился. Белый некогда воротничок его сорочки обмохрился. И манжеты. И всё чаще он стал оглядываться по сторонам, пугаться теней в подворотне, и однажды, остановив какого-то человека на улице, спросил у него: «А вдруг прилетит камикадзе?». И было это совпадение. Никакому Бактюхову я никогда не рассказывал о том, о чем мы в служебном помещении чудесно беседовали с бывшим полковником Сергеем Львовичем Стёгиным. Забавное совпадение.
Нервничал Бактюхов без видимых причин в автобусе и трамвае, в подъезде и ближайшей бакалее. Всё реже стирал на ночь носки в тазу, поставив таз на табурет. Вскоре ему жена стала изменять на узкой чужой кушетке в другом конце города. Жена была еще очень молодой женщиной из хорошей семьи, до основания разрушенной Октябрьской революцией и в период Гражданской войны из курортного Крыма уплывшей на пароходах во все концы света. В ее надменной шляпке с вуалью и в капроновых тонких чулках она ездила на трамвае. Железный трамвай, роняя светлые искры на темный асфальт, шел сперва вдоль чугунной изгороди бульвара, а затем вырывался на просторы дальнего района, и там, в этом районе, названным впоследствии «спальным», она стояла в позе грибника, а худощавый инженерно-технический работник в серой кепке пристраивался к ней сзади. В самый момент кульминации худощавый закатывал глаза, весь мелко дергался и вскрикивал: «О! О! О!».
И вот, согласно утверждению моих соседей (в частности, дяди Пети Сандальева), инженерно-технический работник на окраине Москвы вступал в половую связь с чужой женой из хорошей семьи, а в это время в стране происходило то, что и должно было происходить в данный период ее громадной истории. Свет резкий брызнул, знаменитая Оттепель души человеческие стала отогревать. Юрий Алексеевич Гагарин в Космос полетел, увеличились тиражи ежедневных газет, сняли в Америке кинокартину «Доктор Живаго», началось строительство воздушного коридора между Москвой и Гибралтаром, британский квартет Beatles занял ведущее положение в популярной музыке. И я не помню, в связи с чем Александр Петрович однажды ночью мне позвонил и сказал, что выпьет ящик водки, если Элвис Аарон Пресли приедет в Москву. Пресли в Москву так в ту осень и не приехал, в столицу нашей Родины-матушки. Он и потом не приехал.
Ящик водки выпит не был. Водки было выпито за все то время значительно больше ящика.
Предмет восхищения
Никаких записок я товарищу не мог показать. А ведь было забавно их ему показать хотя бы лет за двадцать пять до удручающего происшествия в безоблачном небе над Средиземным морем. Однако я был не в состоянии этого сделать не столько потому, что острого желания не имел, а исключительно в связи с отсутствием записок. А то бы, прочитав их запоем в комнате с пятирожковой люстрой на потолке, он бы с дивана поднялся и, расхаживая по всей комнате, стал восклицать: «Да на хер мне сдался «Цемент!». Нет, не так. Он, вероятней всего, сравнил бы их с богато иллюстрированной «Камасутрой», а после сравнения сказал бы мне следующее: «Не о том, чувак, ты в душном кабаке поешь». Да, именно так.
А Сергей Львович? Мой непосредственный начальник? И он, трагический военный, быть может, тоже как-либо отреагировал, если бы я дал ему почитать мои записки в нашей душной каптерке. Стукнул бы он кулаком сразу по столу или же немножко погодя?
Нет, всё опять не так.
Приехал бы я утром на работу и, вместо пробега по грязи с оптическим прибором, взял бы и предложил бывшему полковнику письменное сочинение юного его помощника. Конечно, он мог бы сразу же взять и кулаком по столу стукнуть. А мог бы сказать: «Какого члена вы, Армяков, такое мне предлагаете? Вы чего начальнику в разгар рабочего дня суете? Вы тут чем занимаетесь, когда площадка вся такая обширная раскинулась за окном?». И был бы он прав. Не совсем. Ведь мог бы бывший полковник и такт проявить в отношении молодого его помощника в матерчатой кепке, только еще начинавшего себя в жизни определять. Сам бы читать всего полковник, конечно, не стал, отвлекшись на полет камикадзе или на передовую во вчерашней «Правде». Однако наверняка Смирнову с Кузякиным зачитал самые выразительные отрывки про покраску каптерки со всех четырех сторон света и странную пропажу их общего на двоих стального гвоздодера. А потом то же самое зачитал и всем остальным мужикам. Как бы восхитились мужики, могу представить. Они бы, достигнув вершины восхищения, наверняка отправили меня, как самого молодого, туда, где продается прозрачная, вкусная, на спирту и с «целкой» на заветном горле. А может, и не случилось бы всего этого. Да, безусловно не случилось. Сергей Львович был все-таки не совсем бывший крупный, усатый и контуженный полковник из моих записок: он был еще кто-то. Поэтому он вряд ли бы согласился с описанием самого себя, своей японской причины контузии, судороги по всему телу, фуражки без звезды, своих личных отношений с нашей приземистой кадровичкой или с подробностями очистки плавленой сырной «Дружбы» двумя пальцами от фольги. И уж совсем бы он запротестовал, прочитав, как ходит за мной и в затылок мне дышит. Вместе с тем он мог при чтении испытать нечто похожее на тщательно скрытый восторг. Нет, не в связи с взрывоопасным происшествием на монгольской реке, а по случаю великой мелочности и чудовищной грандиозности происходившего. В связи с твердой верой в то, что окончание однажды начатого дела еще не так уж и близко, хотя и оно когда-нибудь подойдет к своему логическому и праздничному завершению. Он, правда, размышляя об этих сложных вещах, всё больше курил, а один раз вдруг ни с того ни с сего ударил кулаком по столу. После удара он успокоился. Успокоившись, он вышел из каптерки и кое-что снаружи разметил. Вернувшись в служебное помещение, он сел на телогрейки и стал не плавленый сырок двумя пальцами очищать, а беседовать со мной о месте человека в жизни.
В свою очередь, Тыквин при всем его уме, при всем его таланте, при всей его рассудительности время от времени оказывался на моем диване, с тем чтобы выразить свой личный восторг не по поводу моих будущих воспоминаний о нем, а по случаю своей могучей эрекции на заре. Скажу честно: эрекция своим могуществом не могла не радовать его. Она таким светлым чувством его наполняла, что то талантливая Норма Джин, то московская женщина в оранжевом пальто подольского производства, а то и обе вместе являлись ему, и он настолько сильно возбуждался, что ночью вставал и, плавно размахивая руками, ходил по комнате. Приливы еще какого-то возбуждения тоже были у него. Он говорил, что вызывает их в нем многое из того, что уже видел он в жизни или не видел еще никогда. Я допускаю, что здесь кое-какой перебор с моей стороны. Однако не сомневаюсь, что если товарища поглубже копнуть, то в качестве причин возбуждения наверняка обнаружатся необозримая широта духовного охвата, тайная глубина личного замысла, отлет в сторону невероятных иллюзий, связанных бог весть с чем. Допускаю и то, что тут не один предмет способен всплыть, не одно явление показаться.
Например, мое неумолчное, хотя пока еще нереализованное желание не своими записками его утомить, а ему что-нибудь интересное рассказать про голову в летном шлеме и, как-то соотнесенное с ней, ожидание праздника, который я иногда пытался устраивать ему в моей небольшой комнате. Мои приходы к нему в его большую комнату с черно-белыми фотографиями на стене, старинным комодом, мамой за полинялой шторой и пятирожковой люстрой на потолке тоже можно отнести к праздничным мероприятиям, хотя и в меньше степени.
Увы, лишь чудесной иллюзией оказалась еще одна надежда не столько моя, а сколько его: побывать на концерте кого-нибудь из основных королей рок-н-ролла, организованном на Большой арене стадиона им. В.И.Ленина. 102 тысячи фанатов придут в своих фанатических майках на стадион и станут на трибунах сильно бесноваться и, поджигая файеры, орать, мешая петь королю. Надежда, однако, долго не умирала. Она периодически вспыхивала и неспешно куда-то уплывала, словно стеклянный лебедь по комоду. Товарищ приходил ко мне, озаренный ею, и вот на этом стуле сидел у меня, а я вон на том сидел у себя. Приёмник мой пахал на полную катушку. Периодически в дверь кулаками кто-то стучал, и мой товарищ говорил: «Эх, не понимают люди духовных поисков нашей молодости!».
Помимо печали по поводу людского непонимания, он восторгался чем-то таким, что права я не имею в своих воспоминаниях пропустить. Рад бы пропустить, да вот отчего-то не получается. А сравнимо это, знаете, с чем? Это сравнимо почти со всем. И с лампочками на фронтоне Центрального телеграфа, и с отблесками зари на станции Конобеево или Подсолнечная, и с грядущим полумраком на 999-ом этаже «Отеля разбитый сердец». А еще с ночными видениями, длинным лицом киноартиста Фернанделя на киноафише, пустыми и влажными скамейками в осеннем парке, странными звонками по телефону, не менее странными сообщениями по поводу имевших место и не имевших места событий. Добавлю, что ничего похожего никогда не бывает в Москве, а если и бывает, то совершенно не в центре громадного города. Это, конечно, иногда попадается на глаза, однако лишь на неблизких окраинах, куда товарищ мой тоже попадал, но только в его воображении и не чаще меня. Он был уверен, что в его праве не только восхищаться, а еще и восторгаться чем бы то ни было, что могло быть лишь продуктом опять-таки его воображения. Яркого и необузданного воображения, как-то соотносившегося с неизбежным концом века двадцатого и столь же неизбежным наступлением века двадцать первого. А к тому, что запросто могло не являться продуктом его воображения, он, по его словам, подходил очень критически. К жизни, разнообразным ее проявлениям, мелким и крупным частностям, иной раз весьма далеким от его личного опыта. Себя, конечно, он тоже критиковал, хотя и реже, чем других.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Танки в саду
Случались в моей жизни и такие обширные, восхитительные ночи, какие случаются только в Москве. Они настолько велики и безграничны, что не в состоянии вместиться ни в какие записки, ни в какие воспоминания. В такие ночи луна над городом казалась особенно круглой, полковник – генералом, а дядя Петя Сандальев – действительным членом Академии Наук. Я просыпался и в полумраке моей неприбранной комнаты видел не обнаженную подмосковную девушку на подоконнике, а белое длинное лицо человека, который, нагнувшись, внимательно смотрел на меня.
Заметив, что я проснулся, человек говорил, что ужасно извиняется, что разбудил меня, однако дело срочное, не терпит отлагательств. - «А что такое?» Я принимался искать свои брюки. - «Да погоди ты штаны-то искать». - «Так что же все-таки стряслось?» - «Да ничего не стряслось». - «Ну а всё же?» Помню, что он, так ничего мне и не объяснив, ходил по комнате и щелкал подтяжками, а я до самого утра делал вид, что сплю.
На следующий день дверь распахивалась, и он входил в комнату в лохматой некрасивой рыжей шапке, похожей на птичье гнездо. Был очень возбужден. Он мне говорил, что наши в любую минуту могут ввести куда-нибудь большое количество бронетехники. Я с этим не соглашался, но вслух возражать не было сил. Тогда в его обычных выражениях он конкретизировал, что таким местом вполне может быть Лондон, Брюссель, Мадрид, Рим, Лиссабон, а также еще какой-нибудь «безвестный» городок, где мост железнодорожный и яблоневые сады. Там, где неведомые зори, а на закате белый дымок из темной трубы над сельской баней.
- А зачем туда-то еще? – Я чувствовал, что он намекает на что-то мне очень знакомое.
- А почему бы и нет?
Придерживался Александр Петрович и другого мнения. А иногда не придерживался вообще никакого, сидя напротив меня и внимательно разглядывая свои растопыренные пальцы. При всем при том он не отрицал, что, скажем, до Швеции советская бронетехника не доедет, однако уверен, что такое карликовое и заповедное государство, как, скажем, Люксембург, вполне может быть потревожено грохотом наших тяжелых гусеничных машин.
- Значит, и по Западной Европе наши могу нанести свой сокрушительный удар?
- Конечно, могут.
- А зачем?
- А затем, что интересно посмотреть.
- На что посмотреть, Александр Петрович?
-А как будет чувствовать себя обыватель в Люксембурге, если однажды утром к нему в вишневый сад въедет железный советский танк.
Никакой танк в люксембургский сад не въезжал, меж тем угроза сохранялась. Об угрозе и по радио говорили, и в газетах писали, и запах ее я ощущал в окружающем воздухе. Полковник ходил по площадке мрачный, молчаливый: он словно обдумывал что-то. Две наши рыжие строительные собаки, Брыкин и Дрыкин, рычали, плохо кушали и никого не подпускали к себе. Плотники пили.
А Тыквин…
Был бы он не мой товарищ, а, повторяю, банальный зануда, если бы не сосредотачивался на поиске новых источников информации. Он, надо сказать, талантливо заострялся на поиске новых источников, располагавшихся черт знает где. Куда-то ездил, с кем-то встречался, приносил откуда-то потускневшие от непрерывного прочтения машинописные страницы, на которые его мать смотрела, если не с ужасом, то с опасением, объясняя что-то ему и показывая черно-белые фотографии в семейном альбоме, на которых был изображен один и тот же рослый мужчина в полувоенном кителе, с выпуклыми глазами и таким же крупным носом, как у товарища моего.
Вскоре я стал замечать у нашей подворотни каких-то двоих в серых кепках и осенних плащах. Еще одного я заметил на лестничной клетке. Замеченный был небольшого роста, в золотых очках, с узким лицом. Сидя на корточках, он длинным металлическим инструментом что-то делал рядом с чугунной гармоникой центрального отопления.
Но и появление этих троих не мешало Александру Петровичу звонить мне по телефону. Я спать собираюсь ложиться, уже носки снял, а он звонит и принимается объяснять, что запросто может оказаться, что люди из высшего руководства страны, чтобы идеологически предварить въезд танка в вишневый сад люксембургского обывателя, постараются издать пару-тройку томов разного рода указов и распоряжений. Не все документы будут напрямую касаться превентивного удара по Европе. Часть документов будет общего характера, часть частного. Вплоть до объявления всей Луны зоной наших интересов. Звучало это совсем уже фантастично, и я догадывался, что таким образом он обходит стороной что-то самое главное и потаенное. Что-то он скрывает от меня, не хочет мне говорить.
Понятно, что я, хотя и редко, на это что-то ему отвечал. На «жриц любви» с холодной брусчатки площади имени великого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова я побаивался намекать: мало ли как человек отреагирует? Мало ли что подумает? Мало ли какие моменты померещатся ему? Мали ли кто крикнет при нем: «Ты чего там у стенки стоишь? Ты давай, помогай комсомольцу!». Ни в коем случае! И в мыслях не было у меня, чтобы при нем намекнуть и на розовую комбинацию, и на 4-ый этаж лечебно-профилактического учреждения, находившегося под круглосуточной эгидой Минздрава СССР, на кабинет с белой ширмой, на районного Ильича Ивановича, на правую створку моего деревянного шкафа. (Или на левую?) Не говорил я ему и о том, чтобы он никогда больше «не пиздил своим ребятам». Он наверняка мог ответить: «А я буду пиздить!». И к этому наверняка бы добавил, чтобы я не грубил очень знающему человеку, который, мало того, что удостаивает меня своим присутствием и звонками, так еще прекрасно уверен, что всё в нашей жизни напрямую касается разных видов человеческой деятельности. Как физических, так и духовных. От орошения пустынь до самого изощренного ассенизаторства.
Веские причины
Несколько раз бывший полковник собирался покинуть каптерку и, прошагав мимо Ярославского перегона, во всем своем величественном обмундировании появиться в моей комнате. Ни разу не появился, хотя я босиком по холодному полу несся распахивать дверь и, распахнув ее, намеревался воскликнуть: «А! Вот и вы, Сергей Львович!». Нет, ничего похожего не случалось со мной.
Зато черноволосая мама Тыквина пару раз появлялась и не где-нибудь на задворках памяти, а у меня в комнате.
Появлялась она всегда неожиданно и вовсе не из праздного любопытства, вроде: а чего вы тут делаете? Она приходила ко мне по важному делу. Суть дела она формулировала с только ей доступной прямотой: «Несколько дней подряд никто не запирается на ночь в уборной с “Камасутрой”. Утром никто перед зеркалом пробор на голове не поправляет».
Сложная жизнь была у нее. Муж из долгих и опасных командировок не вылезал, работа на механической пишущей машинке казалась бесконечной, с сыном затруднения. Два дня назад звонил профессор с кафедры и говорил страшные вещи. О том, что Александр ни в грош не ставит классиков марксизма-ленинизма, манкирует, выкаблучивается, грубо сомневается в превосходстве физического над духовным. Имеются на него и тревожные сигналы по линии того мрачного дома, что на Лубянке. Она профессору тоже что-то говорила. О том, что всего этого не может быть; на что профессор ей тоже что-то говорил; и так долго все это продолжалось, что она уже не понимала ни значения слов, ни существа обсуждаемого вопроса, ни того, что Сашу в очередной раз могут выгнать с кафедры ВПШа… У нее были настолько умные и глубокие черные глаза, словно она предвидела всё заранее, не могла не догадываться о конфликте с профессором, о наших скромных посиделках, о наших разговорах, спорах, мечтах, сомнениях. Но вот какая необычная вещь: на всё это она ни разу даже не намекнула у меня в комнате. Она, должно быть, наперед знала, что я ей обязательно совру, сказав, что мы собираемся у меня с одной-единственной целью: от нечего делать посидеть под моей электрической лампочкой, неподалеку от шкафа, и посмеяться над приключениями Носа в окрестностях Диканьки. Тем более что Александр Петрович однажды мне позвонил и сказал, что лично докопался и выяснил, что все мы из Носа. Вышли мы из него, в него и уйдем. Мы – в него.
Не проходя в комнату, она останавливалась в дверном проеме. Вечернее длинное платье, глубокое декольте, алая бумажная гвоздика в темных, словно южная ночь, волосах. Медленным голосом она предполагала:
– Он под поезд не мог попасть. Не мог он во всей одежде прыгнуть с моста в холодную речку. Я ведь ему только что новые оранжевые носки подарила. Сказала: Сашенька, ты их побереги, сынок, наденешь на праздник. А он в них ушел. Как же так? Разве можно прыгать с моста в грязную, холодную воду в новых оранжевых носках?
Я не хотел ей говорить о том, о чем на самом деле думал. Я не хотел оправдывать себя ни тяжкой работой, ни сообщениями о камикадзе, ни пьянством плотников, ни размытыми в ночи огнями Ярославского перегона. Я соглашался с ней и говорил, что он, понятно, не мог с моста прыгнуть, однако подозрительно, что я несколько дней не видел его: ни во дворе, ни на углу, ни на холодной брусчатке имени Чкалова. - «Я, знаете, уже даже в форточку кричал ему почти на весь двор…» Она смотрела на меня скромно, но с подозрением. И от меня уходила. В своём вечернем платье, с гвоздикой в темных волосах, бледная и очень красивая. Явно разочарованная моим незнанием судьбы друга.
Я подбегал к окну. Удаляясь от меня, покачивались её бёдра. Мне представлялось, что в сумерках одежда ее куда-то исчезает, словно растворяясь в прохладном воздухе Москвы, и я вижу взрослую женщину, мать моего товарища, совсем голой. Как мне хотелось, чтобы видение это не было видением, а самой настоящей реальностью!
Потом его кто-то видел без шапки на Большом Каменном мосту. Он курил и, бесшумно надувая щеки, плевал в темные воды центральной московской реки. Имели место трехдневное расстройство кишечника (прямокишечный дисбактериоз?), какие-то пузырьки с лекарствами, ночной горшок и тихое озлобление по поводу внезапно нагрянувшей, не по возрасту сильной слабости. Просыпался в поту. Казалось, не выживет. Затем – утренние приседания, чистка носа, зубов, устное повторение «позиций любви по Камасутре». Не без намека на карму, строго вертикально восходящую к небесам.
На следующий день он, живой и невредимый, показывался в дверях.
Покурив моей «Явы» и не отказавшись от граненого, который просил налить ему полный, он, глядя куда-то мимо меня, выпивал его весь, отчетливо ахал, произносил: - «А не слабый все ж таки портвейшок в стране у нас выпускают». И длинное лицо его так близко ко мне придвигалось, что видел я сомнения и грустную суету в его глазах. Он нагибался ко мне и необычно тихо спрашивал:
- А правда, что в двух метрах от полковника камикадзе взорвался?
Я не хотел его обманывать:
- Правда, Александр Петрович. Прилетел и взорвался. Правда, не в двух метрах, а в трех.
- Тогда ты мне скажи: полковник после взрыва сколько времени в госпитале пролежал по поводу мозговой контузии?
Я снова далек был от мысли, чтобы солгать товарищу:
- Три года и семь месяцев.
- Я так и думал! Всё сходится, всё совпадает! Я так и думал!
Не уверен, что что-то тут могло совпасть или уже совпало. Не уверен и в том, что судьба моего нестандартного начальника как-либо занимала товарища и друга моего. Возможно, ошибаюсь. Да, скорее всего. Достаточно вспомнить его шикарный рассказ о неожиданном появлении огромного военного с пистолетом, и сразу можно понять, что я непоправимую ошибку допускаю. И потому, наверное, он уводил разговор в сторону, рассказывая мне не о заокеанской кинозвезде и даже не о стычках с профессором Дроцким, а о старинном купе красного дерева, о неизбежной луне, какая «всегда в хвосте поезда», о безмолвных огнях полустанков, пролетавших за окном купе, о вкусных напитках в хрустальных сосудах, о бритом и вежливом проводнике в крахмальной сорочке, о чем-то еще, чего я не могу теперь вспомнить, но что заманчиво фигурировало в рассказах моего друга.
О расстояниях он тоже говорил, не утаивая гулких многолюдных вокзалов и неизбежных ассоциаций, возникавших у него в помещении вокзального буфета при появлении двух бурых сосисок на бумажной тарелке, неумытых юных цыганят, командированного люда с портфелями, каких-то тюков, коробок, узлов, чемоданов. И вроде так получалось, что не было это слишком далеко, не слишком это были длинные расстояния. Не до Лондона и не до Пекина, до которых подальше, а до Бдынска - флагмана отечественной оборонной промышленности, откуда время от времени, согласно воспоминаниям, возвращался его отец, но никогда не возвращался его дед. И снова мерещилось мне что-то очень знакомое, что-то где-то увиденное или где-то услышанное, а Тыквин уточнял:
- Вот отсюда, от твоего фикуса на подоконнике, и во-о-он до туда.
И указывал в сторону столичного темно-зеленого неба, в котором, словно в стекле бутылки, отражались десятки тысяч фонарей.
А с попутчиком ему не везло. Такая печальная невезуха с попутчиком, что сердце у меня сжималось, когда он рассказывал мне о том, насколько сильно не везло ему с попутчиком.
- Да что же это такое, Александр Петрович... Да что же это такое...
- Вот так, Армяков. Такая вот печаль, такая вот невезуха.
И неожиданно, выкрикнув на всю комнату: «Такая вот невезуха!», он, простерев руки к потолку, осведомлялся у меня насчет стеклянной и непочатой заначки. Примерно через минуту, нарвавшись на очередной мучительный отказ, он откидывался на спинку стула и, сложив руки на груди, принимался разглядывать меня настолько пристально, что я терялся в догадках о причинах столь очевидного внимания ко мне.
Вскоре он в деталях описывал свою погрузку в пульмановский вагон.
Грузился он налегке. При нем были его пальто, часы, перчатки, ботинки, а вот коричневого дерматинового чемоданчика с носкам, трусами, носовым платком и зубной щеткой отчего-то не было при нем.
В вагон он грузился с надеждой. Он надеялся, что на первой же станции в вагон войдёт женщина – белокурая кинозвезда в шелковом нижнем белье или действительный член профсоюза по фамилии Веревкина. Кинозвезда в своем белье так и осталась, а Веревкина кинозвездой не оказалась. Она оказалась той же самой Веревкиной, которая в оранжевом пальто подольского производства приснилась ему в юности и с которой он спустя много лет намеревался познакомиться на Большом Каменном мосту, когда она с тяжелой сумкой провианта и в том же пальто двинется в сторону сладкого запаха кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Так что вместо желанной и с провиантом, входил в купе какой-то мешковатый тренировочный костюм. Весь такой полинялый. Бывшего синего цвета.
Сейчас он не мешковатый тренировочный костюм. Сейчас он – ведущий в стране консультант по теме «Лунное притяжение и его влияние на бывшую официальную идеологию бывших буржуазных апологетов идеализма». До вступления на должность консультанта он четыре года прослужил на подводной лодке и пять лет на дорожном катке: гудрон укатывал на трассе «Кинешма-Харьков».
Юноша и надежды
В ту осень смутные надежды питали меня, и я, молодой еще и не слишком опытный, ходил по Москве в своей кепке с матерчатым козырьком. Бегал я и по громадной площадке с казенным прибором, с оптической астролябией Данжона, пытаясь для себя понять позывы к беготне. Я вступал в дискуссии с Сергеем Львовичем, моим начальником, и, когда бывший крупный усатый полковник в очередной раз пытался объяснить мне численность Квантунской армии, жестокий маршрут камикадзе или не до конца внятную «сущность отечественной геодезии», я опять думал, что все это чепуха. Как мне судьба ее навязала? И в силу юношеского максимализма не верил я ни в то, что говорил мне бывший полковник про Халхин-Гол, ни в то, что когда-нибудь начнётся стройка, ни в то, что мой друг и «партийный» студент куда-либо ездил. Сомнения донимали меня.
Что делал я, чтобы развеять их? Какие попытки обязан внести в свой личный архив?
Я ничего не делал и никаких попыток в архив не внесу. Разве что на шестом этаже пятиэтажного дома ноги о коврик в передней вытирал. После чего проходил в комнату с черно-белыми фотографиями на стене, полинялой шторой на деревянных кольцах и пятирожковой люстрой на потолке.
В комнате я узнавал, что и Александр Петрович давно уже не в состоянии избавиться от сомнений. Из-за них его дважды выгоняли с кафедры, и он, чтобы не выгнали в третий раз, совсем уж было решил идти на кафедру извиняться. «Вот приду и скажу: простите, граждане, я не хотел вас обидеть. Верить во всякую фиговину с морковиной – на то есть ваша воля». Однако идти и за кафедральной массивной дверью приносить свои личные извинения в такой возвышенной форме его все-таки как-то ломало или даже как-то коробило, можно и так сказать. Он раз пять в своей шляпе с широкими загнутыми полями доходил до внушительных кафедральных дверей и, постояв возле них, поворачивал назад, вспомнив, что у него пиджак хоть и модный, а все-таки с видавшим виды хлястиком. Наконец он решил, что всего примечательней не погрязнуть в бытовых мелочах, как я, или глубоких идеологических сомнениях, как он, а взять на себя повышенное обязательство написать к ближайшему празднику большую письменную работу, как он выразился, «по разметочному коммунизму». Я три дня ходил по нашей площадке и о чем-то думал. Затем ложился на телогрейки и снова о чем-то думал. Скрипела дверь. Входил полковник. Я видел в маленьком окошке новую Луну. Но так и не смог сообразить, что за коммунизм. Потом, что ли, будет? А когда? А где? А для чего? А потом что? Понял я только одно: Александр Петрович больше не ходит в кинематограф. Не тренируется он и по древнеиндийской Камасутре, осваивая в тонкостях позы любви. Он как-то неожиданно, но сильно возмужал. Он теперь сидит за столом и с помощью китайской авторучки с пипеткой для набора чернил пишет свой яркий, блестящий, умный и в чем-то поразительный реферат.
А о том, что недавно с ним произошло в смысле поездки в пульмановском вагоне в некий оборонный Бдынск, то тут он и сам что-либо прояснить затрудняется. Якобы ночью во сне он беззвучно закричал. В ту же ночь эрекция у него была страшная, а после – «мастер по гудрону, в тренировочном костюме». И поезд куда-то летит. Редкие огни за окном. Тьма Родины, вязкая и глубокая… Под утро он очнулся. И убедился, что лежит в чужой кухне. Лежит он на своём пальто. Стеклянный лебедь плывет по комоду, на подоконнике – сковородка с ручкой. В окне – облака. Раннее утро. Женский голос зовет: «Иди сюда, приезжий! Постелька у меня теплая, широкая, и простынка свежая. Еще человек семь уместятся!». И тотчас лысый доктор входит в дверь: «Ну, пиздец тебе, Александр Петрович!».
Рассказы в каптёрке
Поначалу вечернее, а потом и ночное время суток, иногда совпадавшее с нашими сверхурочным, оказывалось приспособленным не для моих, только еще зарождавшихся в Москве, воспоминаний. Оно всё больше подходило для рассказов в нашей каптерке. И, возможно, из-за сложившихся обстоятельств всё активней действовали в этих рассказах разнообразные, не слишком похожие друг на друга персонажи: приведения, вампиры, упыри, василиски, Еврей, Чапаев, Русский, Англичанин, Француз, Американец, Хрущёв, Ржевский, Брежнев, Чукча, Гостелерадио Армянской ССР. Два рассказа хорошо помню. Это о том, как у Василия Ивановича Чапаева, известного красного командира, стояла граната под кроватью. А еще о том, как какой-то человек откуда-то приходит и говорит: «Да что ж в ней хорошего в жопе-то, бабка». В чем там было дело, я не помню, но все равно, по-моему, очень смешно и вполне подходит для ночного рассказа в присутствии какого-нибудь «бывшего полковника» или «партийного студента».
Помимо этого, объектом для всевозможных розыгрышей и скетчей служили два наших неразлучных плотника и одновременно две колоритнейшие фигуры моих записок. Фамилия одного Смирнов, другого Кузякин. Обязан отметить, что люди они всегда были очень талантливые, хотя и чрезвычайно доверчивые. То от них молоток куда-нибудь спрячут, то гвоздодёр, то рубанок, то вместо водки им чистого денатурированного спирта полный стакан нальют. Кстати, оба плотника являлись не только доверчивыми людьми, а еще и благородными. В отсутствии в их облике определенного блеска никого из них тоже невозможно упрекнуть. Они, по их словам, - прямые потомки изобретателя Ползунова, хотя и абсолютно не плотника по специальности. А коли так, то, стало быть, они и закусывают с тех пор с блеском и даже сиятельно. Проще говоря, они и «помидоркой зелёной» имели свойство закусить и запахом рукава телогрейки, а также всем тем, что было в данный момент доступно им из закуски не только на столе в каптерке, а еще и на всех просторах Москвы и Московской области. А говорили они еще интересней, еще образней. Каким-то общим голосом: - «Что замандёхать прикажете? А лакернуть? Какой такой документик в рамочку вставить?».
Звучали у нас в служебном помещении и всякие другие забавные подробности. Забавными подробностями они останутся навсегда. Однако все равно скажу, что много в помещении говорилось о политике партии, о китайцах, еде, о половых контактах в профсоюзных домах отдыха, в санаториях, профилакториях, агитпунктах, на турбазах: - «Иван Иваныч вчера-то вон чего. Он вчера Марью Николаевну на поляне к сожительству склонил»… - «Да бросьте вы, ей-богу! Бросьте вы херню переть про вашу Николавну!». Ах, как я любил обо всём этом послушать! Как я любил!
Вернувшись с очередного осеннего пробега с оптическим прибором Данжона по площадке, я, заранее открыв рот, садился поодаль и слушал. Музыка слов была невероятной. Она достигала апогея в полнолуние, но чаще в день получки или аванса. И в день получки или аванса над всей нашей необозримой площадкой радостно кричали грачи, и где-то за лесом приветливо гудели поезда, а по радио звучали могучие, торжественные аккорды финансового счастья.
Впрочем, в силу постоянно изменяющегося настроения, из-за моих почти бесконечных романов, из-за других разных дел мне редко когда приходилось забавляться столь же ёмко и выразительно, как делали это наши мужики в каптерке. Водку я с ними пил – это точно. Весь стакан «под обрез». И курил вместе с ними. Я и прикуривать кому-то давал, чиркнув спичкой по коробку с незабываемой надписью «Фабричный Гигант». Мне и двух наших рыжих строительных собак с необычными кличками Брыкин (кобель) и Дрыкин (сука) приходилось свистками гонять. Я и на телогрейках лежал. А еще мой начальник. Он, зачастую недовольный моим отношением к служебными обязанностям, входил в дверь в своей фуражке без звезды. Он говорил: «Опять вас где-то, Армяков, носит. Ладно бы одного, а то еще с казенной астролябией Данжона!». Но уверяю вас: в самые светлые дни моей жизни ни без шапки, ни в шапке ни на какой железнодорожной платформе меня никто не находил. Не ездил я и в вышеназванный «флагман оборонной промышленности». В Бдынск, кажется, в 19-й. Я и представить не могу, где расположены еще восемнадцать.
Я догадывался, что это путешествие не моё. Для подобного путешествия надо быть как минимум студентом ВПШа, а не подручным геодезиста. Мне же и моих заморочек достаточно. Мне хватает и ощущения близкой зимы, и трамвайной колеи вдоль чугунной ограды Страстного бульвара, и опавшей листвы, и темной брусчатки на площади имени знаменитого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, где в вечернее время суток появиться легко, хотя лучше не надо: запросто по лицу схлопотать можно. Для этого на площади есть свои строгие, профессиональные люди. В их коротких пальто они под невключенными фонарями стоят. Курят и стоят. Стоят и курят. Эти люди того только и ждут, чтобы стальным кастетом обидеть пришлого, забрать у него деньги, после чего продолжить стоять и курить под негорящими фонарями. Сами понимаете, что в такую криминальную обстановку и в «вечных поисках романтики и любви» не стоило соваться: обязательно какую-нибудь венерическую болезнь подцепишь. Весь букет. Всю «Абхазию». Кроме того, я всё чаще, возвратившись домой, ложился в своей комнате на диван и приходил к выводу, что наша строительная площадка с каждым днем кажется мне всё более поразительной. Она и сегодня кажется мне настолько большой, такой грязной и настолько жёлтой травой поросла, что по размерам, наверное, и в самом деле не уступает какой-нибудь небольшой европейской стране, Люксембургу или скандинавской Швеции, как один раз, обидевшись на меня за спрятанную в шкафу, но так и вынутую из шкафа бутылку, определил мой товарищ:
«Её тебе с твоим контуженным полковником вряд ли удастся разметить к началу декабря, а тем более к празднику. Её и потом вряд ли удастся разметить, когда годы пройдут и техника размётки достигнет высот невероятных. Кому и для чего придет в голову заново скандинавскую Швецию размечать?»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Ловушка для мух
Среднюю общеобразовательную школу я закончил, в Советскую Армию служить меня не забрали: правое яичко квадратней левого. Как удалось установить? Помог ли тут районный доктор Ильич Иванович?
Что до моего дальнейшего образования. Тут мне следовало постараться. Начать попробую вечером, а закончить к утру. Тем более что маленькая сероглазая девушка с фигурой, похожей на песочные часы, давно не приезжала ко мне и не звонила мне. Я думал, что жизнь взяла ее в свой крутой оборот. Устроилась продавщицей в сельмаг, и всеми днями над ее головой покачивается побуревшая от времени липучка для мух. В продаже есть всё: прозрачная вкусная водка, черный хлеб, гуталин, мелкие гвозди, кильки солёные на развес. Поэтому она никак не может вырваться ко мне, чтобы, снова у меня о чем-нибудь спросив, помечтать об опере «Травиата». А жаль. «Цветок любви» у нее был очень миленький, и капли росы я слизывал с него языком. Она сначала очень стеснялась мне его показывать, утверждая, что у них на площади перед сельмагом такое не принято. Но я ее уговорил. С ее разрешения я пару раз зажигал в комнате верхний свет, чтобы при свете электрической лампочки можно было долго и подробно разглядывать ее миленький «цветок любви», трепетно раскрывая его двумя пальцами.
Про свое образование скажу еще несколько слов.
Я думал, что вот как начну. Приеду домой, кепку на крючок повешу, прибор в угол поставлю, макарон покушаю, чаю выпью и, если Тыквин мне не позвонит и не станет мне сообщать о чём-нибудь «основополагающем», то я перед отходом ко сну на некоторое время погружусь в изучение наук. Или вот надоест мне на работу ездить. Тогда я на четвёртом этаже в нашей районной поликлинике возьму бюллетень по поводу неполадок в вестибулярном аппарате и сразу, помимо картографии с геодезией, начну с «семи свободных искусств», разделив их на две группы: тривиум («троепутье») и квадривиум ( «четверопутье»). А закончу музыкой. И астрономией. Придется мне освоить и хитрости качающегося в разные стороны физического маятника, чтобы доставить пользу себе самому. Вне зависимости от того, какое имеют расположение светила на куполе неба.
Похожее убеждение я сохранил до сих пор. Увы! Далеко не всегда ему следую. Не могу понять: как этим другие занимаются? А иных причин я не помню. Они остались в той давней призрачной Москве, где мы жили, и вызволить их оттуда возможности нет. Не всё же с легкостью вызволяется из давнего прошлого.
Сомнения и догадки
В ту осень я несколько раз ловил себя на мысли, что нельзя ограничивать свою жизнь ничем. Зачем грузить себя работой, учебой, соседями, девушкой из ближайшего Подмосковья, Тыквиным, кино, книгами, Москвой, полковником и так далее? А дамскую розовую комбинацию, небрежно брошенную на спинку стула, для чего то и дело употреблять? Нет, нельзя, глупо зацикливаться на чем-то одном! Человеку моего возраста, роста, веса, ума, материального достатка невозможно жить одним только будущим, прошлым или настоящим, какими бы многоцветными, многопрофильными и поразительными ни были они. Но рассуждать легко – труднее делать. К тому же и дальше жить тоже надо. Так человек устроен, что дальше жить хочет. Но вот проблема: как жить? Вот в чем вопрос!
Он и теперь далек от ответа. Он и теперь многогранен. Он и теперь совершенно неясен, словно судьба соседа моего, тихого и скорбного «кляузника» Бактюхова, который письменно обвинил простую советскую женщину в публичном вывешивании нижних штанов, вызвав тем самым острую психологическую реакцию с ее стороны. А уж подобная реакция, как вы понимаете, совершенно не чепуха. Это вам не квитанция МОСЭНЕРГО на оплату потреблённого электричества.
Конечно, была уверенность у меня, что для всего этого тоже надо на свете человеку жить: в любой квитанции – свой смысл. А еще для того, чтобы иметь возможность в дымной шашлычной с девушкой мяса с луком покушать и в туре твиста пройтись. Если девушка сыта, обута, хорошо оттанцована, то можно потом при ее добровольном согласии вступить с ней в такие нежные и сексуальные отношения, чтобы и девушка довольной осталась и было что приятелю рассказать.
Справочник
Очень похоже на то, что в ту далекую осень у меня и в мыслях не было, что когда-нибудь судьба моя повернется в сторону вот этих записок. Я понятия не имел, что когда-нибудь сяду, кнопку на постаменте лампы нажму и, кое-что пытаясь припомнить, примусь за изложение. Такие мысли появились значительно позже у меня, приблизительно в 199… году, а то и позже. Стало быть, за много лет до этого я лишь их смутно ощущал. Возможно, они мерещились мне в Москве, а также, видимо, под Москвой, где вообще всё что угодно может померещиться. Значительно реже мерещилось то же самое в транспорте, в магазине, в кинотеатре, в каптерке. Однажды стоял перед витриной с двумя манекенами в ней, и брюнетка красивая, в черных кожаных перчатках мимо прошла. Я оглянулся. Опять мне что-то померещилось? Да, опять. А пожилой продавец с красным обветренным лицом и в серых шерстяных перчатках с отрезанными пальцами? Он никогда не мерещился. Он просто книгами на углу торговал.
Продавец мне сказал:
- С учетом самых разнообразных интересов написана вот эта справочная книга. Берите ее, молодой человек. Вы не пожалеете.
Я книгу взял и некоторое время ни о чем не жалел, отчетливо представляя, что однажды в свободную от других дел минуту у себя в комнате сниму ботинки, лягу на диван и открою справочник, загадав предварительно какую-нибудь страницу.
Один раз так и поступил.
День за окном мерк; окна загорались у жильцов. У них была своя жизнь, у меня – своя.
Путаясь в мыслях о жизни и одновременно в длинных и сложных названиях учебных заведений, я пробовал себя убедить, что, возможно, в ближайшее душное лето всё и состоится. Обязательно заявление об уходе с площадки подам, а затем в техникум картографический поступлю. А там, глядишь, и в высшее учебное заведение примут. А потом и вовсе перспектива такая мне откроется, какая не открывалась еще никому. Жизнь моя состоится, и я во многих вещах разберусь. А там уж куда-нибудь в тихое место устроюсь, где начальник совершенно не сволочь. Он просто сперва маленечко выпивает, а потом волочит пальто по полу. Зато зарплата! Деньги, оклад жалования и т.п. Они – как у первого секретаря какого-нибудь иностранного посольства. Ну, и блестящий паркет во всех комнатах. Стульчак в уборной с изменяющейся геометрией; свежий воздух морской, чай английский. Небольшие электронные машины самого последнего поколения… И мелкие звонки в дверь. А секретарша! А секретарша! А секретарша – в очках. Очень удачная секретарша. Поджарая, с бритыми ногами и в темной плиссированной юбке. Вид из окна на тополя, облака и трамвайные рельсы. Такое вот «однопутье».
Разные направления
В конце того же октября дождь шел. Он шел три дня подряд. Наша строительная площадка от обильных осадков совсем размокла и стала походить на гигантскую половую тряпку с дырами, сквозь которую проглядывали клочья пожелтевшей травы. Как по ней ухитрялась ходить наша кадровичка, белокурая Наталья Николаевна из нашего не до конца еще спроектированного отдела кадров?
А наши мужики? Они, когда приходили с улицы, говорили: - «Вот ты погодка, едри её в качель! Из всех зенитных орудий пора б по тучам выстрелить. Партия и правительство куда глядят? Мы тут рогами упираемся, мы тут жопу рвём, жизней рискуем, а они чего? В очко б им ржавый гвоздодер засунуть!» - «Молчать! Немедленно замолчать! – без особой злости приказывал им полковник. - Бригады для того и есть, чтобы костьми ложиться. Это ж – передний край. Еще раз для тех, кто не понял: край у нас тут пе-ред-ний!» – «Да ладно там, да чего там», - мирно отзывались наши ребята и, повздыхав, свои хлопчатобумажные носки принимались снимать.
Сидя с голыми ступнями и шевеля большими, постаревшими от ходьбы пальцами, они сушились возле железной печки-буржуйки. Курили, смеялись, пургу какую-то несли; громко обсуждали, с какого конца лучше всего взяться рыть лопатами глубокую траншею для коммуникаций: с юга на север или с запада на восток. От них шёл пар, и запах был от тел, как в раздевалке общей бани. Я под дождем по заданию Сергея Львовича несколько раз добегал с прибором Данжона до дальнего забора, отделявшего будущую строительную площадку от Ярославского перегона, где и втыкал треногу прибора в холодную землю. Дважды терял свой ботинок в грязи.
В один из «банных дней» на общем собрании коллектива нашей бригады меня единогласно избрали бессменным политинформатором. Представляете: хмурое утро, мужики носки на трубе сушат, а меня политинформатором избирают!
Я встал.
Я откашлялся.
Я спросил: а в чем новая моя обязанность заключается?
Бывший полковник, молча докурив папиросу, загасил её, воткнув в надтреснутое блюдце. Он, вероятно, решил, что надо бы мне честно сказать, что новая моя обязанность ни в чем не заключается, поскольку не в состоянии повлиять на пролонгирование сроков разметки, а, напротив, уводит сроки в еще более густой туман. Тогда вопрос: а для чего тогда нужно? Ответ: ни для чего. Просто теперь я, так сказать, «политический камикадзе». Местного значения. Поэтому я не должен ни летать, ни тем более взрываться. Я должен вести себя посолидней, стоя с драматическим выражением в середине нашей каптерки и подняв правую руку вверх. В таком положении я обязан громко и с выражением зачитывать дважды в неделю какую-нибудь передовую статью из газеты «Правды» за вчерашнее число. (Что потом и явилось одной из главных положительных составляющих моей характеристики.)
По тематике чтений надо признать: тематика была, и была она самой разной, очень глубокой и совершенно объективной. С чем сравнить? Ну, вот, к примеру, колоритнейшая внешность наших обоих плотников, Смирнова и Кузякина: у одного нос длинный и оттянутый книзу, а у другого – не такой уж и длинный, однако загнутый кверху. Это – такая же разница. По тематике.
Между тем при всем окружающем разнообразии, при всей разности слов и фраз, всё и обязательно должно было начинаться со слова «Вперед!». Я хорошо помню, что так меня и подмывало сказать, используя одну из формулировок Тыквина: - «О чем вы, парни, в душном кабаке?».
Вот так всё и шло. Вот так всё и раскручивалось. По всем направлениям. По сельскому хозяйству или по успехам в освоении космического пространства, по повороту сибирских рек или по тому, как наши опять свою бронетехнику куда-то ввели. Кажется, в безвестный городок, где выгибается над рекой мост стратегический железнодорожный, дымок из трубы местной бани, и чьи-то шаги, до боли знакомые, в богом забытом подъезде…
Сексуальные подробности
Иногда мне казалось, что я похож на «плейбоя». Не на заядлого американского паренька с глянцевой заокеанской обложки, на которого время от времени мечтал походить знаменитый центровой кинематографический фанатик Александр Петрович Тыквин. И уж тем более не на героя цветных кинокартин производства кинокомпании «Юнайтед Артист». Ни в коем случае! Мне казалось, что я похож на опытного столичного человека. На юного, не всегда восторженного чувака, окрылённого победами на любовной почве. Сколько их было, этих побед? Какая из них чуть не закончилась моей женитьбой? Какой из многочисленных «цветков любви» был самым нежным, самым желанным? Какой из них с громко бьющимся сердцем я трепетно раскрывал двумя пальцами? А внутрь я пытался заглянуть?
Предпринимал я попытки продолжить свой роман с небольшой подмосковной девушкой, имевшей пристрастие голой стоять на подоконнике. Правда, она перестала звонить, устроившись продавщицей в сельмаг, и ничего мне не оставалось, лишь только снова возобновить мой давний роман на громадной площадке под будущее строительство. Но как возобновить?
Женщин у нас на будущем строительстве было мало. Теперь мне трудно сказать, сколько именно. Одна из них и была той белокурой, приземистой женщиной лет тридцати, которая впоследствии пошутила, что лишь чудо спасло меня от выдачи мне отрицательной характеристики «как человеку, виновному в распаде империи». Откуда она это взяла?
Так что я поначалу, устроившись в качестве подручного геодезиста, не помышлял о том, чтобы вступать с ней в какие-либо отношения, а уж тем более в такие, которые и при тоталитаризме с полным основанием следует отнести к разряду эротических. Я сам себе говорил: - «Не твоё это дело, чтобы вот так, ни с того ни с сего вступать в отношения с небольшой белокурой женщиной, приземистой Голубятниковой, а тем более намекать при ней на эротику». Как-то не укладывалось, что у нас с ней что-нибудь может быть. Она и постарше меня, и поопытней, и лёгкой формой гипотонии страдает. Она живёт где-то за городом, и жизнь её никак не может пересечься с моей.
Раза два в неделю в рыжей шубе из ненастоящей лисы, накинутой на плечи, она в сапогах типа «чулок» входила в нашу каптёрку и говорила:
- Ну и вонь тут у вас. Порядочной женщине не продохнуть. Сергей Львович, вы мне когда точный список по составу вашей бригады дадите? А то мне надо вас всех на квартальную подавать.
Тотчас в помещении тишина воцарялась. Виден был блеск глаз в отблеске произнесённых слов.
Голубятникова имела пухлые гладкие руки и наручные часы дамские «Заря». Мужики у нас в каптёрке говорили, что у неё три вихрастых мальчика на иждивении. Они громко отзывались о ее бедрах, плечах, груди, шее, коже, ногах, руках, обуви, половых органах, шляпе, шубе, обо всем остальном. Они говорили цинично и не сексуально. Они говорили, что не отказались бы поставить нашу кадровичку в так называемую «позу грибника». Чтобы от страсти перила грызла. После чего кто-нибудь обязательно говорил:
- Была бы страсть, а уж перила найдутся.
Способы убеждения
Не помню, почему, но о своем «романтическом приключении» с нашей кадровичкой я решил полковнику ничего не рассказывать. Мало ли как отнесется бывший военный человек? Мало ли какую реакцию это вызовет в нем, тем более что среди наших мужиков всё больше находилось свидетелей того, что Сергей Львович, стоя за каптеркой на коленях, жадно вдыхал умопомрачительный запах шубы из ненастоящей лисы. И тут я опять не совру, сказав, что и в мыслях не было у меня, чтобы столь яркое описание дополнить розовой дамской комбинацией на спинке стула. Какое отношение имела розовая комбинация к рыжей шубе нашей кадровичке? При чем тут медный канделябр?
Вне всяких сомнений, всё то же самое, хотя и с небольшими поправками, можно было рассказать и другу моему по старому дому, с тем чтобы когда-нибудь и этот рассказ в записки включить. Однако дождик зарядил в Москве на несколько дней, и я засомневался: а надо ли в такую погоду такую интимную тайну ему выдавать? Всё ходил сам не свой и опять-таки молчаливый. К тому же я понимал, что друг очень занят. Он дома сидит за столом и курсовую работу к празднику пишет: блестящий реферат. А то еще возьмет и в самом интересном месте прервет меня и на всю комнату закричит: «А доставай свою стеклянную бутылку из шкафа!». И вот решился… Под тихий и красивый блюз по ламповому радио. Элвис Аарон Пресли (американец, бывший водитель грузовика) исполнял чудесным мягким баритоном «Люби меня нежно». Что в переводе с русского на английский означало «Love me tender».
Под нежный блюз, который, может, вовсе и не блюз в полном смысле, я и нарвался на полное разочарование. Сижу, значит, в комнате, за столом и вдруг вижу: да он совсем не слушает меня и даже не собирается! По его выражению видно, что он заранее не верит мне. «Небожитель» в галстуке, студент партийный, отворачивался от меня. Он рассматривал фотографии на стене и упорно молчал, постукивая по столу пальцами.
Используя емкие строительные выражения, я стал его убеждать, что всё в моем рассказе – чистая правда. Правда и то, что у нее три мальчика на иждивении и что она два раза в неделю приходит в каптерку и требует список на премиальные.
Всех способов убеждения в своей правоте я не сохранил. Это - целый набор. Тут и фривольные намеки, и гортанные крики под водку, и зарубежные песни, и злые насмешки над продукцией завода резиновых изделий в подмосковной Баковке, и шутки насчет отправлений естественных нужд на борту космического корабля, и зеленые неспелые яблоки, которые не закуска, а полное дерьмо. За это ручаюсь.
Когда же меня окончательно прорывало, я ему говорил:
- Вот захожу я в отдел кадров. Каким шагом? Вот таким шагом. А в ботинках в каких? Вот в этих. А с выражением с каким? Вот с таким. Я, значит, сперва об стул спотыкаюсь, и чайник металлический на пол падает, а после я делаю вид, что зашел в отдел кадров всего лишь для того, чтобы об стул споткнуться.
Строительные собаки
В редкие минуты воспоминаний о событиях той осени вижу отчетливо несколько замечательных картин. Есть среди них одна из самых замечательных. Вот ее краткое описание: за столом, в помещении не до конца еще спроектированного отдела кадров сидит женщина в рыжей шубе из фальшивой лисы. Белое от пудры лицо, резко подведенные черные брови, завитки волос на висках, ярко-красные губы. Справа от нее – чёрный советский телефонный аппарат с круглым диском, слева – невообразимая зеленая шляпа с широкими полями.
Я, постояв в молчании, извинился за опрокинутый стул и ушел. Белые большие облака куда-то плыли.
Весь день я находился в подавленном настроении. На закате дня пил с мужиками водку в каптерке – стакан «под обрез». Дыхания на весь стакан не хватило. Я закашлялся. На глазах слезы выступили. Кто-то по плечу меня хлопнул и в ухо крикнул: «Это тебе не «Правду» в каптерке читать!». Затем мужики обсуждали, будет ли Третья мировая война, и горячо спорили, подорожает ли водка, которая и так уже три рубля шестьдесят две копейки. Так и не достигнув ничего определенного, стали снова говорить о бабах; затем и о них говорить надоело и решили тогда всей гурьбой на воздух выйти, чтобы свистками и улюлюканьями погонять по площадке обоих наших рыжих строительных собак: кобеля Брыкина и суку Дрыкина.
Тем временем страна жила своей жизнью, а я всё боялся предложить нежную ночь любви нашей кадровичке, упорно отвлекая себя тем, что по заданию полковника достигал с оптическим прибором Данжона Ярославского перегона; на перегоне я разворачивался и бежал в обратную сторону. И до сих пор нет-нет да и возьмется преследовать меня робость по отношению к товарищу Наталье Николаевне, фамилия которой Голубятникова навсегда. Это для меня столь же очевидно, словно тяжелая кафедральная дверь для Александра Петровича. И если бы не ее личная инициатива, то никогда бы не было ни того прозрачного рассвета, ни той поразительной осенней ночи, когда она, наконец, отдалась мне на промасленных телогрейках. Прямо в каптерке. И – вы уже догадались – при наиболее круглой, низкой и полной Луне. Лимонного цвета.
Сомнения друга
Однажды, почти под конец вчера, Александр Петрович проявил себя с неожиданной стороны. Я никак не ожидал такого от него. А он вот взял и себя проявил. Да еще настолько неожиданно! Ну, хорошо. Предположим, внятно, образно и во всех деталях я бы поведал ему о том, с каким звуком врезался в землю дальневосточный самоубийца, или о том, как полковник оказался в госпитале. А мог бы и про значку. О том, что ее у меня нет. Шкаф есть, а заначки в нем нет. Или о дяде Пете Сандальеве: о том, что у него майка фиолетовая, без рукавов. Так ведь ничего подобного! Об этом у меня и в мыслях не было! Здесь скажу напрямик: товарищ мой встал со стула, что само по себе неожиданностью не являлось: он и раньше со стула вставал. Теперь же он встал и настолько строгим голосом объявил, что я на людей наговариваю, что я замер от неожиданности.
- Что?
- Ничего!
- На кого? – С широкими от удивления глазами я стал приподниматься со стула. – Это я-то на людей наговариваю?
- Ну не Фэтс же Домино, не Рокуэл Уэлч, - донёсся до меня его голос.
- При чем тут Фэтс? – вскричал я. – Какая еще Рокуэл?
- А такая, с очень красивыми сиськами. Однако ты, Армяков, зря напраслину возвел на всех женщин, да еще по фамилии Голубятникова.
- Как это возвел?! Как на всех?!
- Ну не на всех, не на всех… На тех, что приземистые и с высшим юридическим.
- Ни в коем случае!
- Нет, ты мне сам сказал. Ты сам сказал!.. Ты сказал, что в конечном итоге уговорил образованную женщину с пухлыми руками раздеться голой и лечь с тобой на казенную спецодежду. И ты мне тут кончай, Армяков. Кончай ты врать про Голубятникову. А то уговорил он ее! Делать ей больше нечего!
И хотел я сказать ему, что он «сам козел», но не сказал и в своей серой кепке ушел от него.
Я шел по двору по лужам к себе на третий этаж и мысленно ругался на моего товарища и друга. Вот ведь: сам лгун, сам ни шута не знает ни про женщин, ни про «холодную войну», а меня он, видите ли, уличил!
Не было луны. Лампочка покачивалась над подъездом. Близилось утро.
Появление Фернанделя
Несколько дней ни я ему, ни он мне «светских визитов» не наносил. Он и по телефону мне не звонил. Потом – работа, беготня. Две пересадки. Полковник. Снова обескуражился главный геодезист, получив очередную бумагу из Головного управления. Он долго стоял на крыльце и в воздух кричал, что надо бы и новый документ немедленно в рамку вставить. И тотчас Смирнов с Кузякиным из тумана вывернулись: «Так ведь вставляли ж уже!» –«Так еще раз давайте! Еще раз надо вставлять!» И ветер подул еще более сильный, чем накануне; белая мелочь посыпалась с неба, фонари в городе помутнели, и я в очередной раз взял бюллетень у районного Ивана Ильича, то бишь Ильича Ивановича. Но и серо-голубой листок нетрудоспособности не развеселил меня. Я диагноз читал, не скрою, однако не вызвал он во мне прилива ликования. Короче говоря, я места не находил себе в своей заставленной комнате. Ложился на диван и сразу вставал. Садился за стол, открывал какую-то справочную книгу (где купил?) и не видел в книге ничего, кроме длинных и скучных названий.
В город я тоже выходил и в городе, на многолюдных улицах, месте себе снова не находил. Опять шёл дождь, и мне пришлось поднять воротник. Он показался мне допотопным. Я подумал, что надо бы все с себя снять и навсегда в подъезде оставить. Однако… В чем же ходить мне тогда? Глупо, очень глупо! Да и украсть могут.
Вскоре фонари на столбах осветили длинное лицо французского актера Фернанделя на афише. («Дьявол и десять заповедей».) Фернандель был бескорыстным другом Советского Союза. Это был добрый Фернандель, и выражение лица его было доброе. Показалось, что на афише он в таком ракурсе, что чем-то напоминает моего друга по дому, хотя тот не такой уж добрый Фернандель и совершенно не француз – даже в ракурсе.
Сосед мой, плоский Бактюхов, которого я встретил в коридоре, возвратившись из города, был уже известный всей квартире бессовестный кляузник. Он изрядно пообносился и жену во всем заподозрил. И с чайником из полумрака выдвинулся. Остановившись неподалёку, он внимательно посмотрел на меня и мне сообщил, что вид у меня чем-то обеспокоенный. Он что-то еще сказал мне, вроде про очередной отъезд супруги на трамвае в спальный район; затем стрельнул закурить и пошёл дальше той грустной шаркающей походкой, какой уходят в неизвестность. А я вернулся к себе в комнату. Я сел за стол и попытался обратиться к страницам купленного накануне справочника. Это не получилось у меня, и я подумал, что не то что-то со мной происходит, и я понять не могу, что же всё же со мной и каким образом связано с недавней ссорой с товарищем.
На другой день – гудки на перегоне, кричали сцепщики. Ветер. Открылась дверь. Лампочка на потолке качнулась от сквозняка. Качнулся и бывший полковник. Тотчас выпрямившись, он шагнул в каптерку и, против обыкновения, сказал о чём-то несущественном, а не о доставке очередной бумаги «людьми в черных расстегнутых пальто и скандинавских ботинках». Сняв фуражку и положив её на стол, он хотел вписать мою фамилию в премиальный список. Отчего-то списка не обнаружил и фамилию никуда не вписал. Но лишь только после обеда он с миром отпустил меня, ни слова не добавив про последний полет японского смертника.
Смеркалось. Огромный город частично был освещён электрическим светом.
Дома я по отрывному календарю определил, что очередная лунная фаза не за горами. Чтобы ещё раз убедиться в этом, я включил свой радиоприёмник, и сквозь завывания в мировом эфире до меня донеслось: «Время светского визита – удивительное, незабываемое время суток!»
Дня через два я пришел к Александру Петровичу и застал его за написанием реферата. Он был настолько увлечен, что мне пришлось пару-тройку раз сухо кашлянуть в непосредственной близости от товарища. Он от своего занятия не отвлекся, однако вскоре поинтересовался, я ли это покашлял в непосредственной близости от него. Я сказал, что я. Он еще увлеченней поработал над рефератом, потом еще раз поинтересовался, я ли пришёл к нему или не я. Я опять сказал, что я. - «Тебя не узнать, - продолжая трудиться, сказал он. – Ты повзрослел… Ты постарел за это время…. Ты обрюзг за тот период, пока мы не виделись с тобой. Ну что же… Ты так ты… Ну, значит… Здорово, плейбой!». Я промолчал. Тогда он сказал, чтобы я не думал, что «холодная война» - дело простое. Я опять промолчал. Тогда он ещё что-то про холодную войну сказал, напомнив об известной речи Черчилля. Затем сказал, чтобы я у него в комнате дурака не валял, а лучше бы кепку на крючок повесил, астролябию к стене прислонил и поскорее бы ему в гранёный налил. Я так и сделал, не напомнив ему о том, что он сам мне несколько дней назад сказал о том, что больше не пьет, опасаясь ночью безвременно покинуть «сей бренный мир», захлебнувшись рвотными массами. Он поднял, выпил, не подавился и, по обыкновению, откинувшись на спинку стула, сказал, что я «ему душу немножко поправил».
Отчетливо помню не прошедшее мимо нас начало строительства воздушного коридора между Москвой и Гибралтаром. Цены на кроличьи шапки вверх поползли. Последние птицы на Юг собирались. Распавшийся на сотни анекдотов, культ личности Леонида Ильича Брежнева тоже был не за горами.
Новые книги
Не менее свежая информация вот-вот должна была поступить в распоряжение моего начальника. Если бы она к нему поступила, то был бы наверняка праздник на пустыре с участием, быть может, жареного гуся с яблоками, а то и молочного поросенка с черносливами вместо глаз. А так как свежая информация не поступила, то и гусь с поросенком отсрочились.
В отношении товарища скажу: он тоже ждал теперь какую-нибудь свежую информацию. Я не берусь утверждать, что о ближайшей смене экономических формаций или о фарфоровом лебеде, который плывет по комоду, хотя возможно, что и о них. Он, наверное, чтобы новую информацию получить, на пару дней куда-то отлучился, а когда вернулся, мне сразу сказал, что, кроме расшифровки известной аббревиатуры из трех букв, ничего более примечательного не выяснил, кроме наличия одутловатых санитаров в черных кожаных пальто и металлического длинного инструмента, который под напряжением 220 вольт всякому нежному и рафинированному человеку в задницу вставляют. Из-за чего я пришел к выводу, что источники информации таинственны и не поддаются объяснению. Скорее всего, это что-то вроде каких-то новых веяний с Востока для вышедшего покурить на крыльце Сергея Львовича или разнообразного шума и грохота многолюдного центра Москвы – для то и дело пропадавшего в городе Александра Петровича. Кроме того, очередное посещение Большого Каменного моста и постоянно расширявшийся круг чтения, куда с некоторых пор, помимо «Словаря» в твердом коричневом переплёте, с закладкой на одной и той же странице, «Носа» Н.В.Гоголя и других книг, стал входить тонкий географический «Атлас мира» и не вполне объяснимая книжка «Шведский социализм. Мифы и реальность». В этой книге на 453 страницах шла речь о шведских спичках, шведских стенках и шведских семьях: о мифах их возникновения и реальности проявления. Читал он вслух и знаменитую закрытую речь Никиты Сергеевича Хрущева на пленуме ХХ-ого съезда КПСС, которую впервые услышал по радио еще в детстве, когда сидел на табуретке и ногами болтал. С упорством изучал он при свете лампочки в уборной и нелегальную рукописную «Камасутру», оказавшуюся на проверку не тем фолиантом, который он выменял на канделябр у фарцовщиков в подворотне, а учебником гинекологии и акушерства для средних медицинских училищ. В связи с чем он поначалу не понял, как так может быть, чтобы его честно и без зазрения совести грубо в подворотне начесали, а после, кое о чем догадавшись, посетил меня в один из последних дней октября того же года и поставил в известность обо всех самых распространенных до сего дня позах любви. И не только о них. Он мне поведал о некой «оргастической манжетке», теории и практике зачатия, гетеросексуальных отношениях, какой-то бластуле и о том, что для того, чтобы «всё хорошо получилось», каждая девушка в начале полового созревания обязана пойти на прием к какому-либо скрупулезному Ильичу Ивановичу. Там, в кабинете с белой ширмой, она должна снять трусы и сесть на специальное кресло, чтобы доктор при ярком свете специального фонаря внимательно посмотрел, «все ли у нее в порядке». И кое-какие для этого приспособления в учебнике показал. Он был предельно серьезен в деле демонстрации приспособлений. Еще серьезней – в деле имитации осмотра. А я из-за усталости на работе таким важным, сосредоточенным и серьезным, как он, быть не мог, как ни старался. К тому же я испугался приспособлений, их пыточного вида, их странных названий и явной жестокости применения к нежному, желанному и чувствительному «цветку любви». Не скрою, что под воздействием неукротимой фантазии моего приятеля возникали в моем воображении настолько нескромные картины, что я хотел бы о них умолчать, несмотря на всю вчерашнюю скудность и сегодняшнюю обильность информации в данной интимной области.
Новый век
Не знаю, что еще может быть интересного в отношении моих записок, сумбурных воспоминаний, повзрослевшего друга детства и бывшего полковника. Это мне еще предстоит узнать, и, наверное, в году приблизительно 2012-ом какая-нибудь завеса обязательно приоткроется.
А по Александру Петровичу до сих пор убеждён: он с того дня, когда впервые услышал завывания в колпаке кухонной вытяжки, не слишком фанатично, но все-таки верил в то, что век ХХI будет счастливей века XX. Не без известной теперь меланхолии, слишком беспечного хохота и безраздельной печали. Должно быть, и Сергей Львович во что-то похожее тоже верил. И дядя Петя Сандальев, и наши мужики в каптерке. И моя соседка с «вечным» полотенцем на голове. Наверняка бы и Петр Павлович Бактюхов поверил, если бы незадолго до всесоюзных праздничных ликований свой брючный ремень к крючку не прицепил. Кто же против торжества человеческого разума в веках?
Что же касается Александра Петровича, то его переубедить не мог никто и ни в чем. Отчасти потому, что никто, кроме пыльного, но маститого профессора Дроцкого, не собирался переубеждать. Так что и тут он свою твёрдую позицию занимал. Тут он знал наверняка. Тут он по человечеству не ошибался.
Занимал ли он столь же твёрдую позицию в результате малоизученного влияния на человека небесных светил и, в частности, Луны? Да, скорее всего, хотя в памяти не сохранилось, как это называется по-научному. Возможно, что никак.
А возможно, Александр Петрович занимал ту же позицию и на других основаниях. Например, на основе еще меньше изученного праздничного расположения электрических лампочек в период разноцветной иллюминации на фронтоне Центрального Телеграфа. Он всё-таки, хотя и не любил громкой музыки из уличных репродукторов и даже боялся её, однако дань уважения отдавал иллюминации и даже восторгался ею. Особенно светившимся всеми цветами радуги легендарным крейсером «Аврора» и огромной надписи «ГОЭЛРО».
Хорошо сохранилась у меня в памяти эта надпись.
Восторженное время
Сохранилось и то, что в силу разных причин способно сохраняться в столь ненадежной памяти, как моя. Да, именно то и сохранилось, что именно в тот день, когда Сергей Львович в очередной раз вошел в каптерку и сообщил о получении новой и свежей бумаги из Головного управления, Александр Петрович в галстуке, с пробором на голове и граненым в правой руке стоял посреди комнаты с предпраздничным лицом. Глаза его сверкали, пробор тускло сиял. Он говорил про окружающий гул жизни: - «Время-то какое! Жизнь-то какая! Люди-то какие! Погоды-то какие! Закуска-то какая! Ты только погляди вокруг! Ты погляди, в какое чрезвычайное время мы с народом живем!».
Несмотря на столь восторженную констатацию, он по-прежнему был сам по себе, и страшное расстояние отделяло его от подробностей происходившего на площадке, которую мы все дни напролет подготавливали под намеченное строительство фешенебельного здания с горельефами и шпилями. Это и было то самое здание, кем-то из оркестрантов в угловой шашлычной названное «Отелем разбитых сердец». В честь одноименной песни в исполнении американского короля рок-н-ролла и уроженца городка Тьюпело – Элвиса Аарона Пресли.
Еще более внушительное расстояние отделяло товарища моего от моих повседневных забот и обязанностей. Я так и не смог ему по ним ничего объяснить. Он то ли вид делал, то ли действительно не понимал, что за обязанности. Зачем я сдавал простыню в стирку, для чего вилки мыл под краном в коммунальной кухне и почему раз в месяц садился за стол и неаккуратным почерком с отвращением заполнял желтые бумажные «жировки».
Но самая существенная дистанция отделяла его, конечно же, не от ХХI века. Это была даже не дистанция, а чудовищная пропасть между духовным настроем Александра Петровича и моей личной необходимостью убирать с мылом и щеткой места общего пользования, вроде общей уборной (ОбУ). Неотвратимость гнусной уборки ясно следовала из корявого рукописного графика, висевшего на стене многолюдной и многозвучной квартиры: «Армяков – ваша очередь!» А когда сосед Бактюхов повесился на брючном ремне (незадолго до праздников, сразу после вечернего выпуска «Последних известий»), то Александр Петрович, узнав об этом, сказал, что твердо верит в убойную силу «Последних известий», а все равно на похоронную церемонию не пойдет. Ноги его там не будет.
«Мне на душе так нехорошо, так пусто, когда я вижу недавно еще живого человека при галстуке и в деревянном гробу. Он от несчастной любви руки на себя наложил».
Он сутки не показывался из дверей подъезда. На вторые сутки он опять из дверей не показался. Только на третий день он мне позвонил и скромно, но твёрдо поручил мне с поминок чего-нибудь принести:
- Ты вот что, Армяков. Ты дурака-то не валяй. Ты оттуда тащи побольше выпить и закусить. Мы с тобой нормально посидим. Мы с тобой зарубежное радио послушаем, а заодно погибшего дядю помянем. Как, ты говоришь, его фамилия?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Трудные деньги
В молодости хочется всего и сразу. Это все знают. И любви хочется, и приключений, и помоднее одеться, и повкуснее покушать, и много денег. Их, кстати сказать, и в зрелом возрасте хочется, а в молодости уж тем более. Молодость она ведь дорогого стоит. Юный формирующийся человек должен быть сказочно богат.
Потом мы старше стали, да и ситуация изменилась в стране. На смену всеобщему социализму пришел еще более всеобщий капитализм. Деньги стали легче доставаться. Не всем, безусловно, а небольшому проценту населения. Входил ли я в этот процент? Об этом история умалчивает. Наверное, чаще не входил, чем входил. И тем не менее чей-то голос, похожий на голос моего приятеля, кричал мне в ночи: «Бери, Армяков, сколько хочешь, сколько у тебя в каждом кармане поместится!» Тотчас кто-то в белом модном шарфе и с оттопыренными ушами нагибался ко мне и тем же голосом снова кричал: «Ты, если хочешь, свою заработную плату можешь долларами взять, фунтами стерлингов, шведскими кронами или французскими франками, а можешь и в рублях получить. Это уж как ты сам решишь. Как тебе больше нравится. Но ты смотри, Армяков! Ты смотри, чтоб тебя по дороге не ограбили. Сам знаешь: нехорошие ребята выбегут из ближней подворотни, нож к горлу, холодный кольт 39-ого калибра в бок, и заорут: «А ну давай сюда бабло своё!» Я просыпался от этого крика и видел темный силуэт фикуса на подоконнике.
Я знаю десятки людей. Только теперь эти люди признались в том, что они, как и я в молодости, деньги тяжким трудом зарабатывали. Где они этим занимались? А кто где. Одни где-то на Севере, другие где-то на Юге. А кто-то недавно предпринял усилия, чтобы побольше денег заработать где-то на Востоке. А то возьмут и станут зарабатывать на Западе. Или в Испанию улетят. Могут и в Португалию, но отчего-то чаще в Испанию улетают, где в каждом маленьком городе не меньше восьми публичных домов, а вот летних вечеров нет таких, как у нас. И грибов. И все это с учетом продажи недвижимости и участков земли под строительство. Эти люди, отмечу, и сейчас повсюду тем же занимаются. А некоторые уже бросили, почувствовав, должно быть, физическое отвращение к денежным знакам.
А в смысле моей получки, до которой в конце октября того же года по-прежнему оставалось дней восемь, не меньше, то я о ней уже говорил. Напомню, что в присутствии одной приятной маленькой девушки, приезжавшей ко мне из ближайшего Подмосковья, я откровенно врал, что до получки уже семь дней, а не восемь. Она мне верила и оставалась у меня еще на сутки. Утром она говорила, что теперь до получки уже шесть дней. Мне нравился ее подсчет. Еще больше нравились ее гладкая кожа и маленькая грудь, от вида которой я готов был голову потерять. Чтобы ее окончательно не потерять, я пообещал подарить ей лифчик, когда у меня будут деньги, а после мягко и нежно постарался ее убедить, что лучше ей ходить вообще без лифчика – как женщине, у которой такая красивая грудь. Она соглашалась и просила приготовить чай. Я шел в кухню, куда она стеснялась ходить, считая себя еще не вправе попадаться на глаза соседям, поскольку она мне еще не законная жена. Потом она куда-то пропала, перестала звонить, и я просыпался и видел в окне большую, желтую и круглую луну, освещавшую угол моего шкафа. Свет был беспокойный, отблески его еще беспокойней. Я лежал и думал о том, что вскоре мы, наверное, с ней расстанемся навсегда, или уже расстались, поскольку вряд ли я смогу из моих 75 рублей что-нибудь выкроить на покупку лифчика. Или же выкрою, но на покупку не лифчика, а, скажем, спортивной чугунной гири килограммов, скажем, на шестнадцать. Чтобы не эспандер растягивать на заре, а гирю тягать, наращивая силу мышц и, стало быть, выносливость в тяжком труде на октябрьском пустыре и сексуальных утехах по ночам.
А то, что получку мне выдавали километрах в двадцати от Центра, так это, наверное, к делу не относилось. Для дела у нас имелось специальное полуовальное окошко в нашей строительной кассе. С помощью двуручной плоской пилы выпилили окошко два наших плотника – Смирнов и Кузякин. Там же мне и аванс выдавали. Не ошибусь, сказав, что выдача аванса ни в какое сравнение не шла с получением получки. И наоборот.
Тем не менее дважды в месяц огонек мерцал вдали. Он манил меня, он звал меня. Но призывал он безмолвным мерцанием своим не только меня. Все наши мужики, все наши парни, все наши ребята шли на этот огонек. Идут они на него и теперь.
Как-то пронесли мимо черный концертный рояль, а также чей-то портрет в позолоченной раме. (Я понимал, что, наверное, инструмент предназначен для будущего «Отеля разбитых сердец», но не понимал, для чего рояль и портрет заранее внутрь заносить.) Пытался один солидный взрослый дядя в пластмассовых очках доехать до огонька на велосипеде. Безуспешно. Двухколесное изобретение человечества завязло в грязи и не доехало до заветного огонька. К тому же неудачливый велосипедист оказался человеком пришлым, вообще из другого города и заехал к нам, сбившись с пути. Он сильно заикался, в названиях путался, Москвы не знал и был совсем не из нашей бригады.
А наши мужики все были из нашей бригады, в казённых телогрейках, в сапогах и с лопатами. Были наши мужики и без лопат, но все равно в сапогах и телогрейках. Осень! Остановишь какого-нибудь на темной дороге и спросишь: «Куда идешь, дядя? Куда тебя нелегкая несет?». И он покажет, куда, а еще и скажет что-нибудь музыкальное, незабываемое. А потом - шум в очереди, смех, анекдоты. Умели подзагнуть! А потом ручкой, привязанной веревочкой к гвоздю, в бухгалтерской ведомости против своей фамилии распишешься и бабки, не отходя от «волшебной» кассы, в боковой карман положишь, а после в состоянии достигнутого финансового благополучия идешь по всем улицам и во все витрины заглядываешь. Все ж таки в бухгалтерском окошке семьдесят пять рублей получил. Это ведь, знаете ли, не шестьдесят восемь!
И весь мир у ног твоих.
Полезные вещи
Ни лифчика для девушки, ни для себя чего-нибудь, вроде чугунной гири с цифрами, выдавленными на выпуклом металлическом боку, я так и не купил. Мне не денег стало жаль – мне себя стало жаль. Силы-то человеку какие нужны, чтобы переть шестнадцатикилограммовый чугунный спортивный снаряд по многолюдным улицам Москвы… Товарищ по старому дому, которому я позвонил, помочь в переноске снаряда наотрез отказался. Он сказал, что руки у него из тела не для того растут, чтобы снаряды по Москве таскать, да и занят он слишком. Он к ближайшему празднику еще блестящий реферат не написал по разметочному коммунизму. И вот он пишет сидит, а деталей, штришков, мелочей, оттенков всё не хватает и не хватает. Он уж и так, и сяк, а ни черта не получается. Он уже и у матери хронологические ведомости все пересмотрел, и к пятидесятому тому В.И. Ленина обращался, и в «Книгу о вкусной и здоровой пище» заглядывал, а и там, хотя всё конкретно, что-то вроде не то. Из-за этого он ничего не понимает, обескураживается, а потому весь теперь злой и трезвый. Ламповый радиоприемник пришлось выключить. И вот он, значит, сидит за столом в своём «джазовом» пиджаке, мама постоянно за шторой на пишущей машинке стучит, дворники, мать их по голове, орут под окном, трамваи гремят, Москва живет своей жизнью, покурить нечего, денег нет, дух сиятельного Бенкендорфа особенно буйствует в кухонном колпаке, а он сидит и пишет этот чертов реферат, и перед его мысленным взором маячат различные эпизоды нашего с ним недалекого будущего.
Я, короче говоря, притомился с ним говорить и телефонную трубку повесил.
А деньги все равно потратил. В том же октябре того же года. Тогда же были мною приобретены чрезвычайно разные, но максимально полезные для жизни вещи. Их было больше, чем три, но три помню лучше: новый растяжной резиновый эспандер, шарфик полушерстяной на шею и только еще входившие в моду экспериментальные стельки от плоскостопия. Сюда же попадает вещь четвертая, с запахом псины: шапочка зимняя. Её я приобрел в комиссионном магазине в Столешниковом переулке, напротив кованых железных ворот в Генеральную прокуратуру СССР. Шапка была сперва напялена на голую голову какого-то манекена без туловища, потом я ее – уже после праздников – напялил на свою голову, то есть человека с туловищем, и ощущение пронзительно-влажного холода московского куда-то подевалось от меня.… Ну и, безусловно, вещь в хозяйстве незаменимая: белый фарфоровый чайник с мелкой грузинской заваркой внутри. Его я ещё тёплым купил в магазине, неподалеку от задней стены Комитета государственной безопасности. Так что и заварной чайник – в списке вещей.
Сберкнижка
Тот мой приятель, который с заасфальтированной набережной Обводного канала, тоже всю жизнь человек остроумный. Он и сейчас такой же. Он, правда, несколько располнел и мне в июньском парке культуры и отдыха рассказал, что по ложному обвинению в Лефортове восемь месяцев отсидел. В камере, рассчитанной на трех человек, а вмещавшей сорок три, он чуть было задницей не прочувствовал, что такое «розочка» с острыми краями, безжалостно отколотая от стеклянной бутылки «Советского шампанского». Так что лишь чудом можно объяснить то, что он по-прежнему ходит по Москве в его пиджачной паре и под японским полуавтоматическим зонтом, если на улице дождь. Работает он там же: в многоэтажном межправительственном учреждении на набережной Обводного канала. Женат был ровно три раза. У него ровно три дочери. Все они в полном порядке. Одна – менеджер, другая – визажист, третья – ведущая телевизионного ток-шоу «Состав выступлений». За кефиром и сардельками (тут вы сразу догадались) он ходит в ту же бывшую «Диету», а ныне «Все за рубль». Не утратил он интереса к марочным винам, кожаным туфлям с «разговором», к мягким сигарам «Royal Dutch», к красивым женщинам с большой грудью. Он знает всё по истории автомобильных клаксонов и по устройству швейцарских часов. Он и сейчас готов всех проконсультировать. А еще готов плавать часами в лодке с вёслами по глади какого-нибудь озера или пруда.
Так вот не этот мой давний и остроумный приятель, а не менее остроумный Александр Петрович как-то раз пришел ко мне после трехдневного отсутствия. В сгущавшихся сумерках он появился в дверях, шагнул в комнату, без каких-либо предисловий шляпу на крючок закинул и, должно быть, в порыве остроумия назвал мою сберегательную книжку, которую я только собирался завести, «Финансовой книгой жизни».
Редко удавалось мне от кого-нибудь услышать столь честный отзыв. Он угадал то, в чем я и сам почти не сомневался, в отличие от чего-нибудь другого. Ведь эта была самая тонкая в мире «книга», и в моей жизни она тоже место законное занимала, и с ранней юности я преклоняюсь перед отечественной сберегательной книжкой. Мне кажутся волшебными ее серенький переплет с виньетками, надпись, указывающая на прямую принадлежность к главному банку страны, ее правая графа «остаток». В одну из своих осенних получек я первый раз в жизни положил на нее рубль, а уже дня через два снял с нее три рубля. Тем не менее в графе «остаток» чудом сохранились какие-то цифры, обозначавшие мои личные накопления.
Несколько позже я стал более интенсивно на книжку откладывать. Кое в чем себе отказывал, не без этого. А то каким еще образом можно скопить финансовые средства на осуществление мечты? Обязательно надо кое в чем себе отказать! Словом, я перед мечтой преклоняюсь. Я с ранней юности готов кепку перед ней снимать. Мне представляются непревзойденными её скромная иллюзорность и суховатый запах иллюзорности. Я, повторяю, почти что в каждую получку что-то выкраивал, чтобы положить рубль на мою сберкнижку. В аванс я снимал со сберкнижки три рубля, чтобы за газ, тепло и электричество заплатить жадному до денег родному государству. И тем не менее… Тем не менее в графе «остаток» чудом сохранялись какие-то цифры. Они, ласкавшие мой взор и огорчавшие меня слишком медленным ростом, обозначали, что в одном из громадных сейфов главного банка страны хранятся мои личные трудовые накопления. И не просто так, а с целью для меня важнейшей: ради материального осуществления моей заветной мечты.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Новые соображения
Лампочка в подъезде не горела, а вот Луна взошла. Зачем при скудном свете ночного светила я снова поднимался по ступеням к своему товарищу и другу?
Тем не менее я поднялся на шестой этаж и позвонил в дверь.
Дверь отворилась.
Та же шапка на той же вешалке. Где-то сухой мелкий треск – похоже, на пишущей машинке кто-то печатает. Прохожу в комнату. Вижу: все пять рожков в люстре горят. Штора на деревянных кольцах. Комод с ящиками. Фарфоровый белый лебедь. Александр Петрович сидит в пиджаке за столом, спиной ко мне. Ну, раз сидит, то пусть сидит. Стало быть, так и нужно, чтобы он в его пиджаке сидел за столом. Спиной ко мне.
В тот вечер он меня ни в чем не обвинил, ни в чем не заподозрил, в том числе и в наговоре на приземистых женщин в зеленых безобразных шляпах, с высшим юридическим образованием. Он мне и про «холодную войну» ничего нового рассказывать не стал, сославшись на то, что наскучила ему эта война. «Вот мир во всём мире – совершенно другое дело. Данная тема не наскучит мне никогда, какой бы однообразной и занудной она ни была. Это уж как к бабке ни ходить». Тут он оглянулся и на меня посмотрел. Смотрел он долго, пристально, не мигая. Мне показалось, что вот так, как теперь, он не первый раз смотрит на меня.
- Догадка твоя, Армяков, правильная, - после паузы сказал он. – Это как шпроты в банке пересчитать. Как стакан «Молдавского» перед праздником выпить. Так что ты дурака-то не валяй, ты на спутник Земли всё не сваливай. Зачем всё, что с нами происходит, валить на силы небесные и магнитные поля неведомых миров и созвездий? А то у тебя то камикадзе прилетел, то главный геодезист в каптерку вбегает, то эта ваша, как ты говоришь, из отдела кадров, на телогрейках тебе отдалась. Вот Мэрилин Монро – это из неведомых миров, и Элвис Аарон Пресли оттуда же. И молочный поросенок с майонезом в ноздрях. Так что ты бы лучше теорий никаких не строил на их счет, этих теорий и без тебя народу набежит построить. Ты бы лучше на пропой душ наших одиноких и сердец разбитых в одну сторону откладывал, к примеру, в свой шкаф, а на отдых в другую. Ведь и Уинстон Черчилль тоже откладывал, и Сталин, и Конрад Аденауэр, и Фридрих Энгельс, и Галилео Галилей, и братья Тавиани, и все остальные. А про себя я скажу тебе, что и я бы немного, скажем, вот в этот громоздкий комод отложил, однако эти скоты у нас в ВэПэШа во главе с Дроцким стипендию зажимают. Им, видите ли, не нравится, что я с ними пытаюсь обсудить эту животрепещущую проблему насчёт духовного и физического».
И тут голосом бывшего водителя американского грузовика, Элвиса Аарона Пресли, запел на всю комнату загадочный «Люксембург».
Разные пути
Пел «Люксембург»? Пел «Люксембург». Он до сих пор поёт. Он, правда, в каптерке не пел. Не было его в прокуренной каптерке. Или был? Он, если и был, то где же находился «Люксембург»? А если не был, то кто же тогда под музыку по радио сидел неподалеку, описывая кровопролитную битву на живописных берегах монгольской реки? Не помню… Не помню…
Короче говоря, под музыку мне показалось, что я вроде чего-то снова не понял: Тыквин мне что-то сказал или не Тыквин мне что-то сказал? Если не он, то кто мне что-то сказал?.. Да вроде он… Он!.. А вдруг не он? Не давний мой и фантастический товарищ, плюнувший в детстве в дворника и ставший значительно умнее потом. Но кто же тогда?
Возникло у меня еще одно ощущение, которое и теперь иногда у меня возникает. Я явственно ощутил, насколько плохо жить человеку с такими, как у меня, сомнениями в душе. Однако всего хуже, всего противней человеку без денег жить. Вот это, пожалуй, самое неприятное. А еще хуже не в гибели империи сомневаться, а спать в одиночестве на бугристом диване. И тут я вам честно скажу: стыдно, ужасно стыдно стало мне от мыслей моих! Я подумал, что зря жгу по ночам государственное электричество, пытаясь разобраться в мучительных вопросах относительно того, каким путем собирается идти человечество; что наверняка пролечу мимо каких-то сплоченных рядов; что брошу техникум на 3-ем курсе; что зря я обманул своего лучшего друга, придумав историю про свои сексуальные взаимоотношения с Голубятниковой. Или не обманул?
И снова увидел я себя в пасмурный осенний день в середине нашей каптерки. С газетой в руках.
День вскоре прояснился. Буйные краски осеннего леса радовали меня и огорчали. Я ощущал связь времён и в то же время не ощущал никакой связи. И жил неподалёку великий город, и что-то брезжило, но… Что это было такое?
Я ещё раз вгляделся в зеленовато-желтое, огромное зарево справа от меня. Мне показалось, что там не город, там – государство. Я подумал о том, что голоса и пение таких государств – явление духовное, хотя и основано на эффекте чисто физическом. Нет ничего похожего ни в Европе, ни Америке!
Ядовитая чаша
Говорил ли товарищ мне что-нибудь об Американских Соединенных Штатах, противостояние с которыми было тогда на лицо? Да, говорил. Мне об этом и полковник Стёгин тоже говорил. И все об этом говорили: Маркелыч, Шумелыч, Михалыч, Малафейкин. Все, все, все. Кроме Смирнова и Кузякина, которые никогда ни про какую Америку не говорили. Они вслух размышляли о том, что надо бы по рублю сгоношить или о таинственной пропаже их длинного металлического гвоздодера. «Какая сука его подевала куда?». А что уж точно про Америку, так это то, что противостояние с ней было реальным, знаменитым, упорным и круто распропагандированным во всех СМИ. В них же и вымышленным.
Возможно, к самой могучей заокеанской стране, к ее особенностям бывший полковник относил одно, а Тыквин другое. Они ведь и по США крайне разнообразные позиции занимали, а не только по факту наличия розовой шелковой комбинации на спинке старого стула. Наверняка полковник напирал на возможность военного столкновения практически во всех регионах Земного Шара. Естественно, он не сомневался в победе нашего оружия над американским. В пику этому, Александр Петрович был категорическим противником новой опустошительной войны. Поэтому он к Соединенным Штатам относил огромное количество мирных вещей, в том числе надувной «чувингам», сигареты «Винстон», ковбойские штаны, журнал «Плейбой», Эмпайр Стэйтs Билдинг, изобретателя Белла, длинный розовый кадиллак, в котором ездил Элвис Аарон Пресли, а также «проблему вечной движухи», воспетую жизнерадостным Чабби Чеккером и как-то связанную с открытием стеклянного, словно пельменная на углу, игорного казино в одном из сверхновых городов североамериканского континента. Восхищался Александр Петрович и богатством США, намекая на громадный, ни с чем не сравнимый золотовалютной запас этой страны. А еще он говорил об американском воздушном транспорте, рассказывал о грандиозных победах в области репродукции человека, о том, что в США есть типичная «фабрика грёз» (Голливуд), а также то, что кинозвезда Мэрилин Монро – типичный продукт фабричных грёз. Якобы она и отравилась из-за этого. Она была живая талантливая женщина, а никакая не грёза. Вот от таких сомнений, от внутреннего непреодолимого ужаса она хрустальную чашу с ядом на ночь и выпила.
Говорил ли он мне еще что-нибудь об Американских Соединенных Штатах, противостояние с которыми было тогда на лицо? Да, говорил. Мне об этом противостоянии и полковник Стёгин тоже что-то говорил, а не Смирнов с Кузякиным. Тем более что противостояние было и в самом деле во многом вымышленным.
Первый опыт
Сергей Львович был крупный, усатый, рельефный человек, хотя и сильно контуженный, и это, по-моему, не смешно. Что же смешного в том, что лысый приятный доктор в бинокулярных очках входит в дверь и говорит: «Ну, пиздец, тебе, Львович. Будешь теперь, как пес за хвостом, на одном месте вертеться!»? Ясно, что подобная перспектива не является оптимистичной ни для кого, а уже тем более для того, у кого жена – девушка настолько любвеобильная и сексуальная, что ни одной ночи не пропустит, чтобы не потребовать чего-нибудь новенького, оригинального, в деталях описанного и подробно изображенного на картинках в древнеиндийской Книге Любви с обидной опечаткой на 78-й странице: правильно «канделябр», а не «кондилябр».
В то же время товарищ мой человек был модный, молодой, очень талантливый, хотя и выпивающий. Но даже на трезвую голову он утверждал, что еще не успел родиться, а уже много чего знал. Например, дату своего появления на свет, пришедшуюся в точности на другой день после смерти И.В.Сталина. Странное утверждение. Как подсчитать удалось? Каким способом? Он ведь сам меня уверял, что читать научился лет в девять, а считать в десять. Тогда как бурные аплодисменты на ХХ съезде КПСС воспринял значительно раньше, как и завывания в колпаке кухонной вытяжки. Тогда же он взял себе за правило сидеть посреди кухни на высокой деревянной табуретке и, болтая в воздухе ногами, повторять: «Роща, чаща и свеча, пища, туча, саранча – с буквой «а» и ЩА и ЧА!». И это под грохот аплодисментов по радио!
Однажды ему на праздник резиновую надувную игрушку «уйди-уйди» подарили. Он вышел с игрушкой во двор – попищать. Не прошло и минут двух, как со стороны бывшего бомбоубежища вихляющей стильной походкой подошел к нему наш дворовый великовозрастный хулиган с кличкой, равной его носу, – Шнобель. И вынужден был Тыквин свою новенькую надувную пищалку, которая своей музыкой очень нравилась ему, сменять на ржавый молчаливый болт, оказавшийся в кармане широких штанов нахального Шнобеля. А после уже не юный Александр Петрович, а взрослый Шнобель вихляющей стильной походкой ходил по асфальту нашего двора и с упоением пищал на весь двор. А Тыквин в серой полувоенной гимнастерке с металлическими пуговицами, с болтом и готовальней среднюю школу исправно посещал. Понятно, что в первый же учебный день в сентябре он получил кличку «Ушастая Тыква», за что на заднем дворе и отходил черным плотным ремнем с медной пряжкой юного автора этого прозвища.
Любил в период школьного обучения он, по-моему, всё. Всё, что было и не было связано с внутренним устройством парового котла, музыкального пианино, железных дорог, кинопроекционной установки, каких-то огромных домов так и невыясненной архитектуры. Глубокий интерес к иным областям знаний, вроде акушерства и гинекологии, он ощутил значительно позже. А позы любви стал осваивать раньше. Было ему лет четырнадцать, когда к нему белокурая женщина с выщипанными бровями и в лисьем воротнике на улице подошла. Она подошла к нему и сказала: - «Мальчик, хочешь я у себя на дому кое-что тебе покажу?». С такими словами она взяла его за руку, и вскоре они вошли в подъезд и погрузились в сумеречную прохладу подъезда.
Она своим ключом отперла дверь и по неважно освещенному коридору провела его в большую комнату с черным пианино и широкой кроватью. Шелковая розовая комбинация небрежно была брошена на спинку стула. И пальцем с острым алым ногтем указала на бронзовый канделябр, стоявший на пианино. – «Возьми его в руки, мальчик», - строго сказала она.
Он не понял, для чего надо в руки брать канделябр, но взял. Она же легла на кровать. Она лежала на кровати, сами понимаете, в какой позе. Тут дух у Тыквина захватило, он чуть сознание не потерял, когда увидел, в какой позе она лежит – без панталон совершенно! А когда очнулся, то оказалось, что она является женой большого полковника, который квартировал в соседнем доме с вывеской на фасаде «Местное отделение ДОСААФ». Все это, вместе взятое, не спасло Тыквина от долгого хождения по улицам с какой-то глупой улыбкой, от первой в жизни сигареты, от острого желания поделиться с первым встречным незабываемым впечатлением от только что состоявшегося любовного свидания. Не спасло это его и от первого в жизни посещения нашего районного лечебно-профилактического диспансера. По его признанию, он идти туда не хотел. А потом решил, что все-таки надо сходить. Для чего? По его словам, для того, чтобы почитать разные предупредительные плакаты, документы на стене, а также узнать, что это было с ним такое в комнате с женщиной, розовой комбинацией и «кондилябром».
Второй раз он тот же диспансер посетил не только из любопытства. Случилось это значительно позже. Он уже был взрослым студентом, носил лихо шляпу с загнутыми кверху полями и в гулком учебном коридоре вовсю дискутировал с профессором Дроцким по проблеме смены формаций, когда я, получив на стройке первую получку, привёл с площади имени великого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова жгучую брюнетку с горящими от желания глазами и в широкополой шляпе. И не осталось вскоре на ней ничего, кроме шляпы, и она под фривольное аргентинское танго всю ночь мне кричала: «Эй ты, паренёк! Ты там чего у стенки стоишь? Ты давай, помогай комсомольцу!» Я стушевался, и ладони вспотели мои, и я ему ничем не помог. А он утром признался, что и без меня бы справился… Еще через несколько дней он по телефону сказал, что стал испытывать по утрам чувство крайнего возбуждения, и это чувство, по его мнению, является следствием гормональных процессов в его половой сфере, и он теперь все чаще сравнивает себя с конем. Однако женщину на площади имени великого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова я не нашел, хотя и поехал за ней на тамошнюю брусчатку, сняв последний червонец со своей сберегательной книжки. Приземистые хулиганы в коротких пальто, стоявшие под фонарями, тоже не смогли о ней мне что-нибудь вразумительное сказать. Тыквин, конечно, расстроился, но вида не показал. Он почему-то более подробно стал вспоминать тот самый случай, который произошел с ним в его подростковом возрасте. Вспоминая этот случай, он, бросая на меня выразительные взгляды, несколько раз подчеркнул, что никакого полковника он лично никогда не знал, хотя имел место в тот день некий казус, о котором он пока еще никому не рассказывал. Казус был как-то связан, с одной стороны, с неожиданным появлением большого полковника, а с другой, с внезапным расстройством кишечника. О деталях он, конечно, умолчал. Единственное, что сказал, что ему потом было «так стыдно и неудобно перед миром и людьми за то, что он первый раз в жизни чуть со страху не обосрался». И тут же опять подчеркнул, что образ большого полковника ему совершенно не известен. Он даже не догадывается, кто он такой. Помнит, что вошел в дверь огромный, усатый и вооруженный до зубов полковник с пистолетом в правой руке, но кто такой был этот полковник и для чего вошел, он не знает. Зато он значительно лучше знает, кто такие Молотов с Риббентропом, а также Хрущев Никита Сергеевич, Брежнев Леонида Ильич, Юрий Владимирович Андропов, Чан Кайши, Патрис Лумумба, генералиссимус Франко и все остальные известнейшие государственные деятели, призванные руководить самим течением жизни.
Грустные докладные
Однажды у нас на будущем строительстве почти всё, кроме Сергея Львовича и обоих наших рыжих строительных собак, Брыкина и Дыкина, окончательно замерло, словно бы намертво в землю вросло. Картина сложилась удручающая, но, видимо, подходящая для того, чтобы Александр Петрович мне объяснил причину его скромных посещений высшего партийного заведения, возле мощных дверей которого останавливался городской железный трамвай. (Здесь я собирался дословно привести его объяснение, прозвучавшее в моей комнате в конце октября того же года, около одиннадцати часов вечера, однако не приведу в связи с крайней резкостью выражений.) Впрочем, как бы ни были резки его выражения и редки посещения столичной ВПШа, он туда всегда приезжал, словно на праздничное торжество: бритый, в «джазовом» пиджаке, с набриолиненным пробором, в ботинках фабрики «Скороход».
Первые два утренних академических часа, сидя на газете, он в праздничном настроении курил на чердаке. Конечно, он мог бы и в подвале покурить, но уже в течение следующих двух академических часов. После чего могучее и по-прежнему праздничное желание продолжить высшее коммунистическое образование вставало в нём во весь свой гигантский рост, и он солидно шёл в аудиторию, рассчитанную человек на триста слушателей, которые сидели в амфитеатре и даже на галерке. Лекция была интересной. Причем, настолько, что все сидели молча, и только с улицы проникали сквозь плотные двойные стёкла какие-то звуки, похожие на гудки… Примерно в середине лекции Тыквину надоедало сидеть молча. Он вставал и говорил: «Я-то знаю, товарищ Дроцкий, что духовное выше, а физическое ниже». И тут же багровел профессор, и тотчас звонок за дверью звенел, возвещавший, что дискуссия по данному поводу откладывается на более позднее время.
Подобные утверждения были проявлением невиданной смелости со стороны моего товарища. Еще смелее было его утверждение о том, что и наоборот тоже верно:
- Это уж как поглядеть. Это как человека в пучину жизни рожей сунуть. Возьмем для примера моего друга, Николая Владимировича Армякова. Его туда ею каждый день суют, а ему хоть бы что!
Вскоре Александра Петровича особым приказом по высшему учебному заведению стипендии лишили, а после с треском поперли из ВПШа. С третьего курса. «За безнравственный реализм в описании советской системы и трудовой жизни товарища».
Добавлю, что выгоняли его не раз и не два: его выгоняли намного чаще. А завкафедрой, из-за грустной и подробной докладной которого выгоняли моего товарища, звали не как-нибудь тепло, по-домашнему, а как-то механистически – Дроцкий.
Необычные стрельбы
До сих пор слышу скрип дверей в многолюдной квартире. Где теперь эта женщина, моя соседка? Где она теперь поет по-итальянски? Она сейчас где своим пением занимается? Она, конечно, дура с «вечным» полотенцем на голове, а всё равно поет. А дядя Петя Сандальев? Он теперь где фиолетовую майку носит без рукавов? Куда в ней ходит? Кому и чего говорит?.. И запах рыбы. Он через плотно закрытую дверь проникает в комнату с кухни. Это – навага; я знаю – это навага! Её у нас любят фанатично. Её у нас покупают холодной и твердой, как мемориальная доска, а затем готовят с криком и вонью, на плохо очищенном постном масле. Однако рыба-то какая вкусная!
А он мне звонит. Он что-то путано говорит про мироздание и грядущие праздники, про Уинстона Черчилля и свой громадный, словно 50-й том В. И. Ленина, письменный предпраздничный реферат. И вдруг, сам себя оборвав:
- Ты, Армяков, мне честно скажи: ты деньги у себя на стройке скоро получишь?
- Дней через восемь. А что?
- Ничего…
- Как так ничего?
- Ну так… Просто я их не получу, вот чего. Нет в моей жизни волшебного окошка… (Опять молчание; опять скрип петель дверных и далекое пение.) …Деньги – дрянь, но ты мне все равно немножко дашь. Я тут у центровых фарцовщиков галстук себе приглядел в фиолетовых огурцах и новые носки оранжевые, всё шмотье итальянское. Грех не купить в промозглой подворотне. Да и носить уже нечего.
Опять враки. Носить ему всегда было что. Достаточно припомнить его темные запонки в манжетах, так тут же и возникает убеждение, что ему всегда было что носить. А пиджачок его «джазовый»? Он в нем убедительно в дверном проеме показывался. Я сразу его узнавал: «Ба! Ты ли это, Александр Петрович! Ты ли это в джазовом пиджаке, да еще и с хлястиком, видавшем виды!».
Вне сомнений и то, что не для всеобъемлющей радости жизни, а для повышения её точности привез ему отец откуда-то часики-котлы с двумя дополнительными циферблатами. Они при свете люстры отпадно сияли по вечерам. Привоз часов состоялся почти что сразу после того, как Тыквин ухитрился восьмой класс средней общеобразовательной школы закончить, не забыв перепутать мочевой пузырь с чем-то женским.
Примерно через два года он и девятый класс закончил. Вот тогда-то отец и привез из оборонного, должно быть, девятнадцатого, Бдынска еще один поразительный «сувенир», который товарищ мне неоднократно намеревался показать и всякий раз забывал. Роясь в нижнем ящике темного громоздкого комода и разбрасывая по всей комнате предметы нижней одежды, он говорил:
- Я его тебе в другой раз покажу.
И опять забывал.
А если еще раз на шестой этаж по той же лестнице подняться, то можно увидеть: мир там по-прежнему восхитительный, хотя, наверное, значительно более закрытый, чем в открытой для всего Москве. Так что и крики, и даже выстрелы за той же дверью, и то, что женщина кому-то что-то говорила, относятся к редким и дополнительным проникновениям в этот мир. Их тоже можно в сумбурные мои записки вставить.
Мог ли он в пятирожковую люстру прицелиться? Сам я прицеливания не видел, но думаю, что мог. Чем не занятие для заядлого пацифиста? К тому же, по его словам, вся его «прицельная энергетика» имела происхождение давнее, генетическое, возникшее еще в период темный и разуму неподвластный, когда прокуренный тапер озвучивал на фоно кинематографические похождения Гарри Ллойда и Бастора Китона, а в доме на Большой Никитской улице эсеровские боевики готовили покушение на немецкого графа Мирбаха. Возможно, что и дух Бенкендорфа в вытяжном колпаке тут тоже свою роль сыграл. Не без того.
У меня же, пацифиста не менее (если не более) энергичного, подходящей люстры не было никогда. И стрелять мне не нравилось. Я дважды был в тире в столичном Нескучном саду, дважды на свинцовые мелкие пульки потратился, а по жестяному бегущему зайцу из духового ружья так и не попал.
С другой стороны, хорошенько побегать по площадке под долгие и протяжные крики бывшего полковника – это нормально. Створками шкафа в ночи скрипнуть, на звонок телефонный ответить, грязные вилки помыть, носки снять перед сном – это пожалуйста. Ну, можно по просьбе друга и в гастроном сгонять, как он говорил, «веселой побежкой». Уверен, что и жгучую темпераментную брюнетку не плохо бы с брусчатки чкаловской в комнату на трамвае доставить. Правда, после того первого раза мой друг выходил на середину комнаты и категорически протестовал в отношении подобной доставки, живо вспоминая ее матовую кожу, плавные движения кистей, алые губы, влажный «цветок любви» и сверкающие, жадные глаза.
А можно взять и со своим образованием разобраться. А если не сильно ломает, справочник перед сном полистать по всем учебным заведениям города и, наконец, выяснить, чем отличается «троепутье» от прямого пути к светлому и необходимому для всех будущему. Вполне осуществимо и своей рукой залезть в трусы на тёмной лестничной клетке к очаровательной учащейся ПТУ или к студентке философского факультета МГУ. Ни одна из них, конечно, и не мечтала о том, чтобы я своей рукой залезал к ней в трусы на темной лестничной площадке, но почему-то позволяла это делать, и я, подняв ее юбку выше пояса, спускал с нее трусы почти до колен. Ощущение было настолько сексуальное, что и теперь, когда вспоминаю, у меня кружится голова и хочется повторить.
Уместно здесь еще раз помечтать о разном: записки позволяют. О том, чтобы бывший полковник, наконец, угомонился и прекратил донимать меня рассказами про то, что голову обезумевшего от ужаса японца в летном шлеме обнаружили в двух километрах от эпицентра взрыва. Или о более приятном. О поездке в летнее время на берег большого и теплого моря, о приторном запахе каких-то южных цветов, о настоящих персиках в тонкой кожуре, о белом облаке на вершине горы, о музыке под тентом кафе на набережной, о сухих винах из дальних погребов, о загорелых взрослых женщинах в шортах, в дурацких панамах, в темных очках и со специальными бумажными приспособлениями на носу, чтобы нос не облупился.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В подворотне
А пока, в очередной раз озвучивая мои разрозненные, сумбурные воспоминания, скрипят створки деревянного шкафа. Окно темнеет. Шумит за ним столичный город. Я – в куртке из ткани «болонья». Я с красным червонцем в руке стою посреди комнаты. Я протягиваю Александру Петровичу этот червонец. Я ему говорю: - «На вот тебе, партийный студент! На вот! И будь благодарен за то, что я его на сберкнижку еще не успел отнести!». Он протягивает руку и осторожно, словно боясь, что я передумаю, берет его у меня. И это уже мне не кажется, это – на самом деле.
Взяв его, он скромно кланяется. Лицо его светлеет. Он немедленно одевается в пальто. Он говорит, что скоро вернется. И, резко сорвавшись с места, он в дверь вылетает и гремит по лестнице башмаками. Я тотчас без кепки по той же лестнице вылетаю за ним на улицу, а его уже и след простыл. Лишь что-то вдали напоминает несущегося куда-то и размахивающего на бегу руками лучшего моего товарища и друга.
Он тратил весь червонец в промозглой подворотне, напротив Центрального телеграфа. Фарцовщики его знали. Сволочи они были, мерзавцы, скоты, спекулянты. Тот белобрысый, по кличке «Берем и едем». Он был парень замечательный, однако же и сволочь тоже замечательная. Ни в чем ему не уступал и тот смазливый брюнет, что сам себя называл: «Я – ходячий романс!». Они виртуозно умели всякое фуфло впаривать. Вот и впаривали Александру Петровичу подольские носки вместо итальянских. А он им верил. Он верил им, поскольку бирка имелась на родном языке Галилео Галилея, Марчело Мастрояни, Софи Лорен, Робертино Лоретти… Но сдачу приносил. На закате. Он на закате дня, если меня не было дома, оставлял ее на дне обеденной тарелки: рубля три рыжих с мелочью. Я с работы к себе домой вечером как ни приду, так сосед Бактюхов обязательно откуда-нибудь выглянет и скажет: «К тебе твой лопоухий приходил». Я иду к себе в комнату, лампочку зажигаю и вижу: вчерашняя «Правда», на ней - две алюминиевые вилки, а на дне обеденной тарелки… сдача! Рубля три с мелочью. И все рубли советские, то есть «рыжие». Это – их название на жаргоне. На другой день отпрашиваюсь у Сергея Львовича и бегу их на свою сберкнижку класть. Еще-то их куда девать?
Человек в шапке
Он был первоклассным спорщиком, а не обычным бездельником почти одного со мной возраста, и в этом я все чаще убеждаюсь на туманных просторах моих воспоминаний.
Не был он и худосочным болезненным юношей. Есть такие юноши в Москве. Встречаются среди них и сексуально озабоченные, и равнодушные к брюнеткам, равно как к блондинкам, хотя бы самым сексуальным. Есть и бледные, высокопарные пареньки, которые верят в разные глупые мифы. Есть и упрямые. Они готовы глухой осенней ночью на товарной станции «Москва - Ярославская» разгрузить пару вагонов с кровельным железом, а ни у какого Армякова ни одного рубля никогда не займут. Конечно, был он и кем-то еще. Тем, кто до сих пор кажется мне «долговязым в рыжей шапке». Да, с некоторых пор взялся он кричать у подъезда. О чем? Да все о том же. Или.… Нет, не так уж и важно, что чувствует человек по утрам, с какими мыслями просыпается, о чем он кричит. Один одно развязно крикнет, другой - другое. Тот матом на жену, а этот тоже на жену и тоже матом. Вот у нас в квартире. У нас в квартире соседи орать начинали часов с шести утра. И каждый день все о том же: «Деньги куда дел, сволочь ты эдакая? Опять небось пропил все, гад!». Так что это, знаете ли, все равно. Любое время подходит, чтобы в общей квартире всласть поорать. Кричат и в отдельных квартирах, в пентхаузах. Даже на зарубежных виллах и то голосовые связки надрывают, но это уже настолько испорченные люди, что их куда ни посели, так они и там их станут надрывать. А что касается Александра Петровича, то он был, при всех возможных сомнениях, вполне адекватный молодой человек. По моей версии, не полностью совпадавшей с его. И если это по жизни не совсем так, то пусть найдутся более точные люди и поправят меня. Хотя, конечно, все мы, по нашей природе, мало того что адекватны, так еще и смертны. Каждый из нас. Мы, в конечном итоге, все имеем право на последний оркестр наёмный. На звуки тихих заключительных фанфар. Что уж там говорить. Зачем фантазию напрягать?
Странный коридор
Отнесу к той же осени различные звуки и запахи, их вкус, интенсивность, их редкие сочетания. Туда же отнесу невообразимую смесь жареной картошки с валерьянкой, духов «Красная Москва» и папирос «Фемина», простого мыла, рыбы, лука, кухонной утвари, влажного белья, «пыли веков» и чего-то еще, мало для меня понятного. Может быть, так деревянные стулья пахли? Книги в тугих и мощных переплетах? Не совсем поблекшие черно-белые фотографии на стене? Шторы на деревянных кольцах? Громадный темный комод?
Был и розовый свет впереди. Были и голоса откуда-то, музыкальные фразы, «Собачий вальс» в ритме блюза, блюз в ритме «Собачьего вальса», опять голоса… Короче говоря, идешь и идешь, идешь и идешь, идешь и идешь, и вот уже сундук гражданский кованый позади, и темный кот на сундуке, и металлический велосипед без педалей на правой стене, и всё прочее позади, а коридор в их необыкновенной квартире всё кончиться никак не может. И Тыквин, когда я однажды вошел в коридор и попробовал весь его пройти до конца, мне из комнаты стал кричать:
- Бесполезно! Я сам пробовал, а всё равно бесполезно!
Я вернулся и спросил:
- А почему бесполезно?
- А я знаю? - сказал он. - По нему дедушка мой ходил, Виктор Александрович, царствие ему небесное. Так вот он тоже говорил, что бесполезно. Он один раз ушел и больше не вернулся. За ним в ту ночь сразу двое пришли, оба одутловатые и во всем кожаном, а еще один был в золотых очках и в дверях стоял. И дождик на улице… И крыша авто, темного и страшного, тускло блестела под фонарем. Но это - давний образ. Кошмар жестокой перевозки. Нас с тобой, Армяков, еще на свете не было, никто не знал, будем мы или нет. А Виктор Александрович Тыквин, дедушка мой, по коридору… Он навсегда ушел.
Железная вещь
Слышал я от него о многочисленных людях, созидавших веками семью и навсегда покинувших ее в связи со стечением обстоятельств. Были среди них путешественники, эмигранты, иностранцы, полководцы, изобретатели, чудотворцы, артисты, флотоводцы, спортсмены, фавориты, красавицы, учёные, философы, поэты, герои, стрелочники, мастера балета, престидижитаторы, электрики, водители грузовиков, инженеры, фотографы, сантехники, ботаники, словоблуды, дантисты. Все они не в один день оставили семью, но оставили. Из-за грохота сапог по брусчатке. Из-за победных реляций. Из-за стечения обстоятельств.
Об этом он мне тоже рассказывал. Стоял под моей электрической лампочкой в своем «джазом» пиджаке с видавшим виды хлястиком и рассказывал. Всякий раз путано, с долгими, нудными паузами. И я мог лишь догадываться о том, что случилось в октябре 1939 года. За двадцать пять лет до того дня, когда отец ему часики-котлы подарил с двумя календарями, а потом и эту железную вещь в машинном масле, которую он скрывал от меня в нижнем ящике большого деревянного комода. Не хотел мне показывать.
Нормальная путаница
Как-то за много лет до авиакатастрофы он в комнате у меня, получив очередной отказ по стеклянной заначке, поднес близко к моему лицу свои круглые наручные часы и сказал уже мне известное:
- Я с единственной тройкой по анатомии и физиологии человека восьмой класс школы закончил. Я бы вообще без троек закончил. Да вот запутался в назначении мозжечка и мочевой пузырь с чем-то женским перепутал.
И тотчас увидел я галстук в огурцах и тусклые отсветы набриолиненных волос, и сказавшего мне что-то «необыкновенное» друга и товарища.
В приемнике моем зеленый глаз горел. Музыка из него доносилась. Я думал под музыку. Я пробовал сообразить: как можно мочевой пузырь с чем-то женским перепутать? Дурак он совсем? У него дедушку по доносу на Лубянку забрали, бумагу гнусную на дедушку составили, фамилии анонимщиков почти все с фамилией нашего дворника совпали, а он мне такую дрянь сообщает! И что это значит, когда он говорит мне про «бесконечный коридор» в бывшем доходном доме, надстроенном в тридцатые годы прошлого века и в кухонном вытяжном колпаке сохранившем до наших дней великодержавный дух шефа Третьего охранного отделения, сиятельного графа Бенкендорфа?
Выставка в Копенгагене
А бывало и так, что ни он, ни полковник пару дней не говорили мне ничего. И если полковник молча входил в каптерку и без слов выходил из нее, то Александр Петрович приходил ко мне, ложился молча на диван и лежал, отвернувшись к стене.
Лишь только на третий день он поворачивался ко мне…
- Ты все-таки дурак, Армяков, - слышал я его голос, доносившийся до меня со стороны бугристого дивана. - Ну, как ты не поймешь, что каждый человек имеет право на ошибку? Нет, не о том ты в душном кабаке поешь. Не о том!
Я молчал.
- Особенно сильно человек ошибается в подростковом возрасте. Кажется ему в этом возрасте одно, а в жизни получается совсем другое.
- Как такое может быть, Александр Петрович? – преодолев молчание, спрашивал я.
- Ну, как может быть…. Вот так и может. Умные, знающие люди, как заведенные, спорят, а ни к какому окончательному выводу так и не могут придти. Жена чужая, канделябр, какой-то военный с наганом в правой руке, грязная новостройка, голова чья-то в шлеме… Я более склонен полагать, что всё это, с одной стороны, из-за игры воображения. А с другой? А с другой, всё это из-за того, что у человека половое созревание в полном разгаре. Гормоны буйствуют в крови. Весь его организм круто перестаивается.
- А когда закончит перестраиваться?
- А никогда не закончит. Так устроен человеческий организм. Как физически, так и духовно. Организм еще и перестроиться не успел, а сам вдруг возьмет и с моста в реку плюнет. Или в двадцатый раз постарается поглядеть кинофильм, где американские мужчины в американских женщин переодеваются. Добавлю к твоему сведению и вновь открывшуюся порнографическую выставку в Копенгагене. Что такое порнография в международном масштабе, а? Что это такое? Вот! Даже я этого не знаю! Но знаю, что на подобной выставке уж точно любой организм перестроится. Однако у нас тут не Копенгаген. Это ты и без меня понимаешь. Мы тут пока еще при советской власти живем. А поэтому что? А поэтому то, что человек у нас всегда в своем праве. Один на азиатской реке должен кровь проливать и от контузии всю жизнь мозжечком страдать, а другой на поездах ездить куда-нибудь или где-то в незнакомом месте в кухне на своем пальто спать… Это, знаешь ли, хорошее такое право – на пальто поспасть в незнакомом месте. Оно сильно жизненного опыта прибавляет. Тут ведь самое главное, чтобы пуговица в щеку не вдавилась и носки не пахли. Но особенно замечательно, если вдруг померещится на подоконнике чья-то сковородка с ручкой….
Не мог я понять и по сей день не понимаю, что же тут замечательного. Сумбур какой-то, да и связей маловато. При чем здесь сковородка? При чем тут пальто и выставка в Копенгагене?
Папа
Отца Александра Петровича звали Петр Викторович. Он был человек разъездной, рациональный. Он мог что-нибудь существенное домой из дальних краев привезти, себя умел на побывку доставить, но никогда и нигде не признавал он никакой «магии полнолуний». Не верил он во влияние небесных светил на судьбу человека. Он был чистой воды материалист. Он знал, что в основе всего находится твердая поступить целеустремленного гражданина. Человека, верного своему призванию и трезво оценивающего свои силы, данные ему изменчивой природой средней полосы России. Именно поэтому брюки его патриотично держались на подтяжках столичного производства. Носил он и московские кальсоны зимой, и фетровую шляпу осенью, а в правой руке – кожаный черный портфель с двумя никелированными замками. Круглогодично. В редкие дни возвращений из долгих и, видимо, очень опасных командировок он оставлял в комоде какую-нибудь железную вещь в машинном масле, а на комоде бумажный конверт с лирическим белым голубем и надписью "Миру - мир!" снаружи и двумя красными червонцами внутри. А еще он пил чай с медом. Покончив с чаем, он какой-то особой, замедленной походкой, похожей на Тыквинскую, шёл полежать в дальней комнате на кровати и то ли маму любил, то ли просто спал в домашней теплой темноте.
Утром он молча вставал, брился в кухне перед маленьким зеркалом и опять куда-то уезжал на прибывшем за ним грузовике марки «ЗИЛ».
Мама
Родная мама Александра Петровича (в отличие от отца) никуда не ездила. Она всеми днями сидела за полинялой коричневой шторой и, озабоченная темным призраком вечной и беспросветной нужды, печатала на механической пишущей машинке. По-моему, на «Ундервуде». Я в названиях машинок не очень разбираюсь.
Я понимаю, что всё это выглядит не совсем правдоподобно, однако мы ей нашим присутствием мешали редко. А если мешали, то штора, словно от сквозняка, шевелилась на деревянных кольцах. Я чувствовал запах крепких духов и длинных дамских папирос; затем женский негромкий голос спокойно говорил:
- Мальчики, вы кушали что-нибудь?
Бутылка за спиной
Ближе к праздникам снег первый пошел большими елочными хлопьями. Достигнув асфальта, но почти не прикасаясь к нему, снег сразу таял, и только в каких-то углах и на воротниках прохожих сохранялся. Что и свидетельствовало о том, что зима в наших широтах – явление неизбежное.
Примерно тогда же бывший полковник в очередной раз озаботился слишком медленными темпами нашей работы. Александр же Петрович, еще раз где-то попробовав убедиться в том, что век ХХI будет счастливей века ХХ, стал досконально выяснять, почему Москва называется «портом пяти морей». Тогда-то у него на груди и появился тот, редкий сегодня, круглый эмалевый значок с указанием на Москву и количества в ней морей. Он мне сказал, что, по его подсчетам, морей в Москве значительно больше, чем пять, тогда как круглым значком наградили его в антикварном магазине на Арбате.
Вскоре он стал изучать 49-й том из полного собрания В.И. Ленина и постепенно превратил его в 50-й. Однажды он мне сообщил, что он бы, словно Герберт Уэллс, поговорил с живым Ильичем.
- Вот только жаль, что главный революционер ХХ века скончался от сухотки мозга. Куда Надежда Константиновна Крупская смотрела?
Возможно, что и в Ордена Ленина Краснознаменный Планетарий он стал наведываться не просто так. Скорее всего, потому, что я его по телефону немножко пошантажировал относительно изменения сроков наступления в городе периода Полной Луны. Я, вероятно, шутил, а он делал вид, что воспринимает всерьез то, что я ему говорю. Поэтому он и отправился однажды на трамвае в Планетарий или еще куда-то, чтобы не с одутловатыми санитарами встретиться, а расширить свой взгляд на мир и действительность.
Я его в те дни дома не заставал. Мне дверь открывала его худощавая мама. Она еще больше нравилась мне. Я видел, какая она по-прежнему красивая, какое на ней вечернее платье с глубоким вырезом на груди, какая у нее алая гвоздика в волосах. И глаза у нее были все те же, но отчего-то влажные. Она мне говорила: - «Вы, Армяков, идите еще куда-нибудь с вашим портвейном. Не надо вам здесь духовный мусор сеять. Не надо вам так удивляться на меня и прятать бутылку с алкоголем за спиной». Отвергнутый, я шел куда-нибудь, вроде как-то перемещался из пустого и гулкого подъезда в густую обстановку прокуренной шашлычной: там небольшой оркестр играл, и выделялся контрабас с облезлым боком… Из прокуренной обстановки публичного заведения я возвращался к себе в обстановку не менее прокуренную, однако менее публичную и, грустный, сидел в своей комнате, глядя на окна на шестом этаже того дома, который надстроен был в тридцатые годы прошлого века. Я думал о том, что еще век назад дом был двухэтажный, и тогда в нем, согласно дворовой легенде, имел обыкновение останавливаться шеф Третьего отделения, блистательный Бенкендорф в парадном мундире. Он по Радищевской трассе ездил из Петербурга в Москву.
Утром в своих ботинках я шел в нашу поликлинику и, сославшись на неполадки вестибулярного аппарата, брал у районного Ильича Ивановича официальный бюллетень. Ильич Иванович любил меня. Он был человек нежный, и взгляд у него был мягкий, а пальцы розовые, и голос вкрадчивый. И очень нежно, но настойчиво он посылал меня снимать штаны за белой ширмой. Я их за ширмой снимать не хотел. Тогда Ильич Иванович мне говорил, что за последнее время наука настолько далеко продвинулась, что любые неполадки вестибулярного аппарата лечатся либо массажом простаты, либо двумя бутылками армянского конька.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Американские ботинки
В один из дней той же осени, так и не дождавшись от меня никаких новых подробностей, Александр Петрович позвонил мне во втором часу ночи и по телефону сказал:
- Я тебе еще на прошлой неделе сообщить собирался.
- Про что, Александр Петрович?
- Про то, что праздники на носу.
- Да знаю, что на носу, Александр Петрович.
- А про то, что мысль меня не совсем ординарная посетила, ты тоже уже, наверное, слышал.
- Какая мысль? Опять про деньги?
Молчание.
- Ты, Александр Петрович, - продолжал я, - сам знаешь: мне еще восемь дней жить до получки, до радостного и волшебного огонька строительной кассы.
Еще немного помолчав, он сказал:
- Да совсем я тебе не про деньги. Ты с чего взял? Я к тебе в духовном плане. Я про то, что эта американская кинозвезда – порядочная дура, а то бы не отравилась. А вот бывший водитель американского большегрузного автомобиля совсем не дурак. Поэтому он к нам скоро приедет.
- Кто?!
Я повернул голову и в окне увидел новую вогнутую луну над крышами. А он, наверное, на удивительно прямых ногах вышел в их маленькую кухню с железным вытяжным колпаком над плитой и оттуда мне крикнул, и отозвался эхом железный вытяжной колпак:
- Они… не хотят… чтобы… он… приезжал… а все равно приедет!… Во что… бы то… ни стало!..
- Один? - крикнул я.
- Конечно, нет. Ясно, что не один. Конечно! Он прибудет в нашу страну со своей знаменитой трехдолларовой гитарой, в золотом пиджаке и синих замшевых американских ботинках «blue suede shoes»!
После этого я дня три его не видел, так как он опять куда-то ненадолго отъехал или отлучился, может быть, на сей раз в область иных миров и созвездий наконец, а у нас на Ярославском перегоне столкнулись два состава, груженые сосновым лесом, и нас всех бросили на разборку возникших завалов. Горели прожектора. Свет проходил сквозь мелкую сетку непогоды. Полковник при всех орденах и в капюшоне стоял на ящике и крикам и жестами бросал нас в бой с последствиями катастрофы.
За это нам пообещали прибавить семь рублей к квартальной, но так и не состоялось квартальное премирование. Зато каждому дали по бутылке водки и по одному килограмму отдельной колбасы в серой оберточной бумаге.
С водкой и колбасой, крепко прижатых к сердцу, я пришел к товарищу, который к тому времени уже откуда-то вернулся, и ему сказал: - «Я премию получил!». Мы обнялись. Обнявшись, мы прошли в комнату и сели за накрытый скатертью стол. Он включил музыку, и примерно во втором часу ночи часы на стене прозвенели, и город затих, и товарищ мой обрисовал грандиозную картину приезда Элвиса Аарона Пресли в СССР.
Увы! Не приведу я эту картину ни полностью, ни в урезанном виде. Да, были флоксы. Да, были геоцинты. Да, кого-то встречали. Но, кажется, не мы. И был это не совсем Элвис Пресли. Это приехали к нам в СССР принц Суфану Вонг с супругой. Или еще кто-то. Вроде товарища Го Мо Жо. Тогда почти каждую неделю в страну к нам какой-нибудь Го Мо Жо приезжал, и центр города был весь перекрыт для движения городского транспорта. Сейчас – не то же самое, но почти. Хотя давно уже нет на свете никакого товарища Го Мо Жо. Да и не было никогда.
Догадка товарища
Однажды, войдя в каптерку, я ни слова не сказал о том, что у меня, возможно, появится желание когда-нибудь изобразить наше прокуренное служебное помещение в каких-нибудь записках. Ни слова не сообщил я и об авторе записок. (Он кто такой?) Я только хотел сказать, что в юности ходил автор в матерчатой кепке по Москве, мечтая купить новую зимнюю шапку и разглядывая манекены в витринах. Летом он собирался отправиться в сторону моря. Однако и этого не сказал. Подумал: а какой нормальный человек не мечтает о зимней шапке и о море? Кому не хочется жить в тепле и довольствии? Вместо рассказа про шапку и море, я в служебном помещении сообщил, что у меня есть приятель. Близкий мне человек с сильно развитой интуицией и не менее сильно развитым воображением.
Мужики, какие в каптерке сидели кто на чем, все, конечно, стали смеяться над моим сообщением и грубо стали надо мной подшучивать.
Все, кроме Сергея Львовича. Он стоял посреди помещения в фуражке без звезды и слушал с серьезным лицом.
Выслушав мое сообщение, бывший полковник спросил, как выглядит этот человек, есть ли у него хоть что-нибудь общее с летающим японским смертником; затем сказал, что если общего ничего нет, то тогда доброе дело, коли такие друзья есть. Такая позиция правильная.
В тот день работы по геодезической съемке местности опять было больше, чем можно было предположить. Накануне опять бумага пришла, и опять свежая, с печатью. Опять в ней было несколько казенных фраз. Опять в ней было сказано, что надо всю разметку закончить к декабрю, но лучше к праздникам. С тем чтобы после снова начать, но уже где-нибудь в другом месте. Должно быть, поэтому полковник и хотел что-нибудь поточнее узнать, подробности выяснить.
Вскоре время обеда стало приближаться, и, когда приблизилось окончательно, я заметил, что выражение у моего руководителя теперь не такое строгое, как обычно. Так что именно в обед, а совсем не в конце дня Сергей Львович конкретизировал, что он, при всем его знании жизни, не отказался бы поточнее в чем-нибудь разобраться, о что-нибудь поподробней узнать.
После обеда дождик так и не пошел, хотя облака по небу плыли тяжелые и плыли медленно. Свет сверху падал такой, что я впервые увидел, насколько обречен и несчастен бывший герой войны с японской регулярной армией. Я понял, что и у него в душе что-то такое творится, что он вправе в чем-то сомневаться, а также, словно впервые, спросить:
- Вы, Армяков, что теперь думаете? О чем размышляете?
- Да о разном, Сергей Львович.
- Это верно. Человек в вашем возрасте должен думать о разном. О жизни, о друзьях, о девушках, обо всем… Вот вы, как думающий человек, можете мне сказать: успеем мы к праздникам всю площадку разметить или не успеем даже к декабрю?
- Смотря с какой скоростью размечать, Сергей Львович.
- Вы думаете, что темпы надо увеличивать?
- Трудно сказать, Сергей Львович. Мы и так вроде не часто на телогрейках отдыхаем.
- А что вы думаете о назначении объекта?
- Думаю, что это будет что-то очень большое, очень значительное, очень красивое.
- Хлебозавод?
- Возможно, что и хлебозавод.
- Или казарма?
- Или казарма.
- Или не будет хлебозавод?
- Возможно, что и не будет.
- А что же тогда?
- Не знаю, Сергей Львович.
- Вот и я не знаю. Даже предположить не могу. Так… что-то смутно мерещится… высокое здание с горельефами и шпилями… А головой мотну, так больше и не мерещится. А после – опять. – Он закурил, предварительно постучав мундштуком папиросы по крышке коробки и дунув в мундштук. – Скажите мне такую штуку, Армяков… А что если мы не совсем правильно по небесным светилам ориентируемся? А что если мы не там размечаем?
- Как такое может быть, Сергей Львович?
- А вот так и может. Ну, да ладно. Этот всё высшая геодезия с высочайшей картографией. Вы в них еще не слишком хорошо понимаете. Однако, вы скажете мне: а что, если не вы, то хотя бы ваш товарищ о чем-то догадался? Он-то хоть начитанный человек? Он-то может хоть что-нибудь предположить?
В силу возраста и малого опыта я до конца не сообразил, кого он имеет ввиду. Причем здесь мой товарищ? Откуда к нему такое повышенное внимание? Тем не менее я сказал, что мой товарищ, наверное, уже о многом догадался, поскольку ездит на трамвае в одно из главных идеологических учебных заведений не только Москвы, но и всего Советского Союза, а потому имеет доступ к наиболее важным и закрытым на кафедре документам.
Полковник, у которого в глазах вспыхнул глубокий интерес, попросил конкретизировать.
Я принялся что-то рассказывать Сергею Львовичу, и, сидя рядом со мной на промасленных телогрейках, он закурил еще одну папиросу, достав ее из плоской пачки с надписью «Обводной канал».
Увы, рассказ мой был сбивчив и невразумителен. Я так и не смог ему рассказать ничего из того важного и значительного, что могло бы пролить свет на сложившуюся ситуацию. Критиковать Систему, как делал это Александр Петрович, мне не хотелось: я ведь был теперь бессменным политинформатором и мне еще предстояло поступать в техникум и свое место в жизни определять. К тому же показалось, что снова не удастся во всех деталях и подробностях передать историю с женщиной, розовой комбинацией и бронзовым канделябром. Недостаточно четко будет мною воспроизведено и то, как мы с Александром Петровичем ламповый радиоприемник слушаем, говорим о кино, о «Носе», как часики-котлы на запястьи при свете люстры блестят, и что-то странное и неизвестное, но в машинном масле покоится в нижем ящике громоздкого комода… Я, иными словами, начальнику моему ничего конкретного, ничего существенного так и не сказал. Я только подумал, что когда-нибудь выражу ему горячую благодарность за мою беготню, вопреки усталости и непогоде, и за потерю ботинка в грязи. За дожди, за солнечную безоблачную погоду, за приближение пурги. За все те дни, часы и минуты, когда мы в душном служебном помещении общались с ним. Обязательно я его поблагодарю и за то, что он первый показал мне, как надо в минуту высшего подъема духа с размаху ударять кулаком по столу.
Он кулаком в тот день по столу так и не ударил, хотя мой туманный рассказ мог вплотную к такому удару подвести. Произошло это несколько позже, и я об этом еще расскажу. А в тот день он от меня так толком ничего и не добился. Полчасика мы с ним побеседовали, причем я уже готов был привести несколько образных примеров из «Камасутры» и в подробностях сообщить, как надо пельмени варить с горошинами черного перца и лавровым листом. Возникало у меня и такое намерение, чтобы поведать Сергею Львовичу о тех глубоких нравственных причинах, позволявших киноактрисе Мэрилин Монро летать по комнате без трусов, а капризной Галине Аркадьевне вешать ее шелковую комбинацию на спинку стула. Впрочем, ничего похожего я ему рассказать не успел. То есть я уже вроде начал рассказывать, но тут дверь заскрипела, и в каптерке появились Смирнов с Кузякиным, и Сергей Львович, увидев их, резко встал и на все помещение закричал:
- Какого члена в рамку документ не вставили!
Выкрикнув, он вместе со Смирновым и Кузякиным вышел в низкую дверь каптерки, оставив меня дожидаться восхода луны (она в тот день не взошла, должно быть, из-за плохой погоды) и рассматривать неподписанный список людей, намеченных на выплату премиальных.
В списке не было моей фамилии. Или была?
А про светловолосую Голубятникову из нашего вновь спроектированного отдела кадров я нового ничего не скажу. Кроме того, что она была женщиной лет приблизительно тридцати. У меня до сих пор перед глазами счастливое ее лицо и легкомысленные завитушки на висках. Она в ту ночь была в чулках. Что при всех режимах очень сексуально, тем более что она их так и не сняла. Всё остальное сняла, а чулки по моей просьбе оставила. Она, правда, и их хотела снять, но я стал настаивать, и она пошла мне навстречу. А перед этим спросила:
- Чулки мне снимать?
- Зачем? – сказал я.
- Могу оставить. Они у меня хорошие чулки. Я их утром сегодня надела. Ехала на работу и все боялась, что какой-нибудь хмырь портфелем зацепит. Но не зацепил. А вам, значит, нравятся, женщины в чулках… Была бы я мужиком, и мне бы, наверное, тоже нравились.
Я обрадовался возникшему между нами взаимопониманию. Тем более что под утро она мне сказала:
- Да ладно, чего уж там. Все остальное сняла, а чулки не сняла. Я их на своем теле оставила, раз уж вы, Николай Владимирович, меня попросили. Чего уж там, ей-богу, по мелочам-то препираться.
Стены в нашей служебной каптерке уже были выкрашены нашими двумя плотниками со всех четырех сторон света, хотя по-прежнему были очень тонкие, и в щели дуло. И долгий, непрерывный крик моей любовницы, этот ее крик «на самой вершине», гортанный крик кульминации, как потом мне кто-то рассказывал, был слышен на всем пространстве от площади им. Чкалова до Ярославского перегона. Она бы, мимолетная и сладострастная блондинка, Стёгину Сергею Львовичу, профессиональному фанатику размётки, всё равно бы не отдала ни сердца, ни души. Остался неподписанным и список премируемых. Я у нее под утро спросил про этот список. Она мне сказала: «Жаль, конечно, но пока не могу я его подписать. Пусть Стёгин для начала по составу бригады определится. А то и осень к концу, а мне так и не ясно, скольких из вас на премиальные подавать, а скольких не подавать».
Сравнение событий
Есть в жизни вещи, которые я до сих пор не понимаю? Есть. А мои воспоминания? Наверное, есть и они. Я иногда приезжаю с работы, включаю радио и по радио слышу «далекую музыку воспоминаний». Я слышу ее и люблю, однако почти ничего в ней не понимаю.
То же могу сказать по событиям. Полеты в Космос или освоение целинных и залежных земель. Подорожание шапок из меха кролика или последний концерт ливерпульского квартета The Beatles на крыше небоскреба в Лондоне. Трагические события на полуострове Даманский или введение в широкую продажу водки под названием «Коленчатый вал». Ноябрьская смерть генсека Брежнева Леонида Ильича или трагическая гибель моего плоского, как дверь, соседа от предчувствия регулярной измены со стороны его жены в районе новостроек Свиблова. Есть во всем этом что-то общее? Есть или нет?
Реформатор
В ту осень бывший полковник несколько раз обращался к подробностям гибели летающего смертника, тогда как Александр Петрович ни разу к ним не обратился, утверждая, что мой удел «нести такую пургу». Зато Александра Петровича в очередной раз поперли из ВПШа. За то, что на семинаре по размёточному коммунизму он то ли воздух в аудитории с шумом испортил, вызвав неудовольствие в спаянном коллективе девушек, сидевших неподалеку, то ли Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию назвал уничижительно - «вооруженным переворотом районного масштаба». Теперь это расхожий штамп, теперь такое всякий может. Теперь это по телевизору показывают и спрашивают об этом у всех, кто после двухсот граммов выпитой водки способен разглядеть не мирных лебедей на пруду, а глубинную суть вооруженных переворотов.
А тогда все было не так. Тогда профессор Дроцкий, побагровев, схватился рукой за сердце, и волосы у него на голове встали дыбом, и стекла в очках затуманились. А Тыквин сказал, что «никакие не враки, что, может быть, в самое ближайшее время американцы, по их обыкновению, высадятся на поверхности Луны». Тут профессор широко открыл рот и хотел что-то крикнуть, однако не крикнул и, не закрыв рта, стал опускаться на стул. А Тыквин, поправив галстук, к вышесказанному прибавил, что, возможно, лет через пять будет еще один энергетический кризис. Шандец всем настанет из-за резкого падения цен на ископаемую нефть. А возможно, что и не будет никакого кризиса. А если все-таки будет, то не у нас, а где-нибудь в прохладной Швеции или в Аргентине: между таким-то градусом северной широты и таким-то градусом восточной долготы. А у нас что-нибудь подорожает из носильных вещей не самой первой необходимости. А возможно, что вообще все не так. Просто у Армякова в уборной опять сломается сливной бачок, возраст которого, по оценке ведущих квартирных специалистов, запросто сравним с возрастом столыпинских реформ. (Тут он хотел пояснить, о каких реформах идет речь, но не пояснил, сказав, что уверен, что прежде будет построен туннель под Ла-Маншем и кто-нибудь из самых отважных облетит весь земной шар на воздушном шаре.)
Алая гвоздика в волосах
Он так и не стал одним из ведущих функционеров нашей Родины, не обогнул вплавь Антарктиды, не облетел на воздушном шаре планету по экватору. Не сбылась еще одна его мечта. Замечательная мечта о том, что с первой приличной зарплаты подарит матери-машинистке флакончик «Красной Москвы» с притертой стеклянной пробкой. К духам бы подошли и белые туфли на модной в те годы платформе, и бесшумный печатающий аппарат с еще неизвестным в те годы голубым плоским дисплеем. И было бы правильно с его стороны, если бы, конечно, он так и сделал. Так было бы хорошо.
Он так этого и не сделал. Не знаю, почему.
Больше скажу: за всё время, пока я его знал, он не подарил матери ничего, кроме наших с ним споров почти до самого рассвета и естественного беспокойства за его судьбу.
Проблемы с духовным здоровьем он ей тоже преподносил. Она из-за любви к сыну старалась их не замечать. А когда замечала, то выходила из-за шторы (алая гвоздика в темных волосах) и говорила:
- Саша! У тебя с детства очевидные проблемы с духовным здоровьем и мелкие прыщики на лбу, которые ты этой вонючей аптекарской мазью мажешь. Ты лет до двенадцати не мог толком объяснить, чем отличается троллейбус от хлеборезки. А вот Коля Армяков, который к тебе музыку слушать приходит, наверняка мог. Ты видишь, как он упорно работает? Ты видишь, как он стремительно бегает с оптическим прибором Данжона для определения небесных светил? А ты так не можешь. Нет, не можешь ты так… Ты ведь у меня философ. Ты скоро в высшей партийной школе третий курс закончишь.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Огни
На тот же период времени приходится следующее по счету получение бумаги из Головного управления – по срокам окончания разметки под строительство. В бумаге было отчетливо сказано, что «необходимо закончить не позже декабря, однако лучше бы к праздникам». Полковник, стоя в середине каптерки, раза три вслух прочитал строгие слова документа. Указаний о назначении Дома, всех его шпилей, горельефов, внутреннего оборудования и 999-ти этажей, документ опять не содержал, и полковник вечером у нас в каптёрке очень много выкурил папирос. Потом ночь на пустырь опустилась, и он сказал, что это, наверное, по его данным, будет высшая школа, хлебозавод или еще что-нибудь с подвесным зимним садом, с продовольственным складом, большими премиальными, кадровичкой Голубятниковой и светлой бухгалтерией. И я ему хотел сообщить насчет приезда в нашу страну ведущего короля рок-н-ролла, но не сообщил. Вместо этого я молча вышел из помещения на крыльцо и стал слушать, как где-то за лесом живет своей жизнью Ярославский перегон. И зарево огней огромного города было справа от меня.
«А ведь где-то, - думал я, - быть может, в неведомом мне мире вот так же, как я, стоит человек на крыльце маленького служебного помещения. Он курит на ветру и размышляет о том же самом».
Падение флагов
Да, я был молод тогда, я был наивен. Думаю, что вы это поняли и без меня. Впрочем, и мне, несмотря на молодость и наивность, было понятно, что грусть и тоску, печаль и сомнения, «критику всего», горячие споры с профессором, внезапные отлучки и некоторую историческую непоследовательность у Александра Петровича не отнять. У человека отнять вообще ничего невозможно. Грустить и печалиться – такое же человеческое право, как много и долго смеяться или сообщать друзьям содержание снов и видений.
И у нас на будущей стройке об этом тоже говорили. Ну, не совсем так, не совсем об этом. О чём-то более приземлённом: про баб, коммунизм, деньги, китайцев, еду. Один лишь бывший полковник время от времени отводил меня в сторону, чтобы сказать о другом. Он, как и в тот раз, спрашивал меня: - «Скажите мне, Армяков: вы справки навели? Вы у вашего товарища что-нибудь выяснили?».
Я ничего не отвечал. Я не знал, что должен ему отвечать. Я стоял напротив моего начальника, неподалеку от гвоздя, вбитого в стену, вблизи узкого окошка, за которым раскинулся темный пустырь с далекими огнями на перегоне. Гудки опять мерещились мне. Я почему-то представлял, как огромные праздничные портреты водружаются на фасад Центрального телеграфа с помощью мужиков и лебедок. И мой товарищ в пальто с поднятым воротником и рыжей шапке стоит на ветру и грустно кричит на гигантские изображения. А мимо танки едут и бронетранспортеры, и асфальт содрогается, и воздух, и всё, что ни есть вокруг. Пахнет гарью войны, и не слышно ни слов, ни криков птиц, ни грядущего падения флагов.
Неудачный банкет
В наше районное отделение милиции он попадал или не попадал? Называл ли он наше отделение «мусоровней»? Была ли права его мать, предупреждавшая из-за шторы, что он когда-нибудь туда может попасть? - «Они тебя, Саша, возьмут вот и арестуют. Они напомнят тебе, что в детстве ты в дворника плюнул, а в юности с профессором Дроцким препирался. Они все напомнят тебе… И ты получишь, сынок, три года и семь месяцев химии пожизненной».
Я в такую правдивую версию и по сей день верю, хотя, опять же, не до конца. А у Сергея Львовича я не спрашивал. И у районного Гольденвейзера. И у дяди Пети Сандальева. И у плоского Бактюхова. Я думаю, что мой товарищ, чтобы важности напустить и всякого тумана, всё это придумал. А вдруг не совсем он? А вдруг не придумал?
…Пятница. Подходят к нему на улице трое в кожаных черных пальто: двое высоких (одутловатые), а один низкорослый такой, с острым личиком и в золотых очках. Низкорослый у них, наверное, главный. Снизу вверх поглядев на Тыквина, он говорит:
- Тыквин?
- Ну?
- Тогда пошли.
- Куда?
- Да тут вот, недалеко.
- В отделение, что ли?
- Нет, в «Прагу», на третий этаж. Поросенка молочного кушать. По случаю высадки американцев на лунной поверхности. А возможно, что и гуся жирного. С яблоками.
Кстати, у отделения номер свой был: 218-й, если память не изменяет.
Находилось отделение неподалеку. Из нашего двора надо было выйти и быстрыми шагами идти в нужную сторону. Тогда-то и получалось, что милицейская кутузка находится метрах в пятистах от нашей арки в солнечную погоду и не более чем в шестистах в погоду дождливую. При этом надо сперва по Большому Каменному мосту пробежаться, а после на огни в темных водах известной реки поглядеть. Сигаретку «Ява» с фильтром тоже можно по дороге выкурить. А еще сладкий воздух неподалеку от кондитерского «Красного Октября» всей грудью вдохнуть.
Внутри же отделения всё было, что называется, по классике. Чем-то воняло, на окнах – решетки из жестких стальных прутьев; лампочка настольная свечей на двести пятьдесят, зеленые грязные стены. Номерной казенный стул, прибитый к полу. Несколько милиционеров в штатском, все остальные в форме. Разнообразная предпраздничная пьянь, твердо накурено, и рыжий капитан Пустовский, упитанный мужчина лет сорока с желтыми и неестественно ровными вставными зубами: свои ему ещё в 1954 году два рецедивиста-форточника в схватке выбили.
И если верить не моим запискам, а непосредственно Тыквину, то выходило, что у капитана других дел не было, кроме как у Александра Петровича часа три подряд спрашивать под лампой одну и ту же чепуху:
- Ты на людях орать когда кончишь?
Арестованный отвечал, что орать он, наверное, скоро не кончит, однако в другой раз постарается крикнуть так, чтобы, кроме братков-танкистов, никто из прочих военных ничего не услыхал.
- Ты дурак совсем? – немного помолчав, спрашивал капитан.
- Нет, не совсем. А кричать все равно не кончу.
Сутки нес Александр Петрович в районном отделении похожую околесину, употребляя то неизбежную смену формаций, то Элвиса Пресли, то порнографическую выставку в Копенгагене. После чего его отпускали. Рыжий капитан под руку выводил Тыквина на улицу и говорил:
- Ладно, парень, ладно. Ты иди. Ты иди, значит. Ты дыши воздухом, парень. Мы пока тебя отпускаем. Ты еще мужик молодой, ты еще мужик кому-нибудь нужный. Ты авось еще образумишься. Но ты запомни слова капитана: в другой раз к нам попадешь, пожизненной «химией» отделаешься. На стройку народного хозяйства навсегда определим. А перед стройкой пару раз об стену головой приложим!
Люби меня нежно
С синяком во всю правую щеку лежал мой товарищ в комнате на шестом этаже. Шторы задернуты. Горела люстра: все пять рожков. Шевелились деревянные кольца на полинялой шторе, и, если прислушаться, можно было услышать, что он что-то шепчет, что-то знакомое:
- Эх, Мэрилин ты Монро! О чем ты пела в душном кабаке!
Я входил в комнату к больному, взяв накануне за свой счет два неофициальных отгула. Не у Голубятниковой в кадрах и не в районном кабинете с белой ширмой, а лично у Сергея Львовича.
Опять была моя очередь бежать по холодной улице в духоту непревзойдённых гастрономических «У летчиков».
По возвращении я острым консервным ножом вскрывал плоскую жестяную банку с шпротами. Тыквин в торжественной позе часового стоял у старого лампового радио. Пело и гудело и свистело старое радио. Потом Элвис Аарон Пресли медленным бархатным голосом исполнял под гитару «Люби меня нежно», и Александр Петрович на весь период звучания чудесной мелодии терял связь с действительностью. Он точно во сне шел к двери, распахивал её и тихо говорил какому-то шикарному брюнету в золотом пиджаке: «Я потрясен!».
Был ли я потрясен? Не знаю… Я все это видел не раз, и всякий раз так и подмывало спросить, как ухитряется он проделывать все эти штуки. Он же ставил на стол пустую граненую рюмку, накалывал шпротину на металлическую вилку и принимался туманно что-то объяснять… И снова я ничего не понимал. И вот уж столько лет тому, а я до сих пор не знаю, что это было такое, и в словаре посмотреть времени нет. Видимо, это было что-то поразительно давнее, из разряда побочных явлений. Эпифеномен, так сказать. Загадочное слово из-под коричневого ледерина его «Словаря». Или вот идет человек в шапке по улице, а к нему трое подходят и говорят:
- Не вы ли в три часа дня в 197... году на улице Горького кричали что-то нараспев?
Не знаю, что ответить.
ЧАСТЬ III
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Грач на заборе
По дороге на работу я держался за холодный поручень в автобусе и пробовал восстановить в памяти кое-что. Мелочи и не совсем мелочи, дрянь и не совсем дрянь, мусор и совершенно не мусор. Возникали и тут же пропадали куда-то отрывки наших бесед глубокой ночью, мой фикус на подоконнике, дурацкие словесные и смысловые повторы, мой справочник, официант в шашлычной на углу, девушка из Подмосковья, сосед Бактюхов, оплёванный дворник, дядя Петя Сандальев, поющая соседка, профессор Дроцкий, оба плотника, кадровичка, какой-то велосипедист, три санитара, продавец книг, мужчина с пузиком, Мэрилин Монро, стрельба по люстре, завывания ветра в подворотне, и кто-то на длинных ногах и с червонцем в правой руке бежал вниз по лестнице и что-то беззвучно кричал на ходу.
Вспоминалось мне и подробное описание предполагаемых «поз любви» из староиндийской книги. Но и позы, и книгу опускаю: они теперь всем известны. За годы ни число их, ни качество не изменились. Лишь некоторые, включая так называемое «коленно-локтевое положение» одного из партнеров, а то и обоих сразу, получили еще более широкое распространение, приобрели еще большую популярность среди публики.
Из других своих мыслей и впечатлений выделю глубокое сожаление, что не удается мне с незабываемой точностью другу и товарищу свои ощущения передать. Каждый день собираюсь, но вскоре отвлекаюсь то на обычное течение жизни, то девушка из ближайшего Подмосковья на диване остается и, обнаженная, спит в ночи, а в чугунной гармонике центрального отопления коммунальщики поднимают температуру воды. Одним словом, плохо мне удается в присутствии Александра Петровича что-нибудь дельное заметить!
Мне и в смысле сидевшего на заборе грача ничего существенного в голову не приходило. А ведь какой приятный был грач с черным и блестящим оперением!
А где-то неподалёку был еще один предмет моего постоянно намечавшегося, но пока еще несостоявшегося рассказа. Таким предметом была наша строительная каптерка, которую наши плотники сколотили, Смирнов и Кузякин. С помощью молотка и гвоздей.
Они же, Смирнов и Кузякин, после двухнедельного запоя (вместе отмечали очередную годовщину со дня рождения русского изобретателя Ползунова) вручную покрасили каптерку желто-зеленой, неприятной для глаза краской. Смирнов правой рукой красил южную часть, а Кузякин левой рукой закрашивал северную. А чтобы с запада покрасить или с востока, об этом речь долгое время вообще не заходила, а после зашла. Что и совпало с тем, что из Головного управления бумага пришла о том, что сроки давно уже поджимают и, чтобы не сидеть сложа руки, надо бы, пока суть да дело, каптерку покрасить со всех четырех сторон света. Там же черным по белому указывалось, что если покраску быстро не осуществить, то тогда комиссия приедет. Зачем? А затем, чтобы, по словам полковника, всем надавать то самое, что в прежние времена, как и в нынешние, образно именовалось «приличными пи…дюлями». Грубо звучит, зато искренне. Простите, что «з» на точки заменил.
Характерные особенности
Обязан Тыквин узнать с моих слов и то, что это не просто служебный домик, а вполне одинокая, душная и пока единственная постройка на огромной площадке, поразительно грязной, поросшей кое-где пожелтевшей травой. Лес вдали, гудки на станции. Почти как на одной из странных, не до конца поблекших фотографических картин в комнате на шестом этаже. Внутри помещения установили круглую электрическую плитку с тускло светившимися весь день спиралями. На электрическую плитку я ставил чайник с водой, чтобы он закипел и струйкой пара из носовой дудки порадовал собравшихся.
Имелась в каптерке и специальная печка из железа, с изогнутой трубой – для сушки обуви и носков. И чьи-то громадные растоптанные башмаки с обвислыми усталыми языками стояли круглосуточно у теплой печки. У них не было хозяина. Их хозяин однажды на всё плюнул и куда-то сбежал. Лишь кто-то глухо хохотал в ночи. Такие ночи у нас не назывались «жуткими». Они у нас назывались «веселыми». Тем более что, по одной из версий, человек сбежал не один, а со всей нашей строительной кассой, в которой всегда было ровно 318 руб. 47 коп.
Однажды из города приехал бензиновый «зиловский» грузовик с кузовом и двигателем внутреннего сгорания. Из кабины выскочил шофер в пиджаке и приплюснутой меховой шапке. Шофер закричал: «Эй, мужики! Зилок разгружать будем или еблом торговать будем?» Вот этот «зилок» и привез (для меня) оптический прибор Данжона, то есть астролябию.
А то еще иной раз куда-нибудь бежишь с прибором по пожухлой траве, и перегон мерещится вдали. Бежишь и руками балансируешь. Жизнью очень доволен и песню поешь: «Когда фонарики качаются ночные...». Тут самое основное, чтобы, как говорил Александр Петрович, «брюки модные внизу не забрызгать жидкой грязью. А то ты брюки модные забрызгаешь, грязь засохнет, а потом ее тебе же и оттирать. Тупое занятие!».
В нашу каптерку, мало чем по размерам уступавшую моей двенадцатиметровой комнате на третьем этаже, набивалось человек семь мужиков. Для чего, не могу объяснить. Сколько раз пробовал, а так и не смог. Думаю, что и Тыквин тут бы тоже несколько стушевался. Зачем и кому настоятельно требовалось, чтобы столько мужиков единовременно набивались в маленькое, невероятно душное и узкое служебное помещение?
Полковник
Всё то время, пока я работал под началом Сергея Львовича, мне нравилось, что, несмотря на возраст, Сергей Львович удачно приспособлен, чтобы в минуту высшего подъема духа ударить кулаком по столу. Однако всего лучше он поспевает по разметочному делу. В этом он – выдающийся профессионал.
О его внешности скажу: дядя высокого роста, с покатыми, как у Тыквина, плечами. Он солидней и старше Тыквина и, как я только что отметил, значительно выше его ростом. У него густые черные усы, глубокая складка на переносице, очень высокий лоб и армейская фуражка без звезды (не как у Тыквина, у которого ни усов, ни армейской фуражки). Впрочем, это только казалось, что полковник очень строг и внушителен. На самом деле не так уж он строг, хотя и внушителен. Сравнений здесь не нужно никаких. Но все равно уточню, что Сергей Львович – как бы даже не совсем бывший крупный усатый полковник, а еще кто-то. Вроде внезапно постаревшего Александра Петровича или какого-нибудь одинокого пианиста в период исполнения им на фоно «Собачьего вальса» или «Девятого концерта».
Мой непосредственный начальник, он то ли имел, то ли не имел обыкновения слишком уж часто выговаривать мне за мою геодезическую нерасторопность: - «Ну где вас, Армяков, с астролябией носит? Где вы там пропадаете? Снова небось до службы долго ехали? Снова небось у вас девушка из Подмосковья? И когда вы только женитесь на какой-нибудь одной из них!». А если и выговаривал, то лишь ради подчеркивания факта субординации, чтобы все-таки не попадал я в плен своих личных иллюзий, кто здесь начальник, а кто подчиненный. Сам он, по его словам, жил с устойчивой надеждой в душе: завершить когда-нибудь разметку и сдать объект.
Имел он и семью, состоявшую из его взрослой красивой дочери и молодой красивой жены, которая с начала шестидесятых годов не с ним жила, а еще с кем-то. В свою очередь, он тоже с кем-то жил, периодически забывая, с кем именно.
На мой однажды заданный вопрос: «Как, Сергей Львович, такое возможно?», он мне ответил, что всё, что ни бывает в жизни, запомнить ни в коем случае не получится: человек так устроен, чтобы обязательно что-нибудь выветрилось из его памяти. И добавил, что у него у самого не от каждого воспоминания как-то вдруг теплеет на душе и хочется расцеловать всех людей на земном шаре. А бывает и так, что от воспоминаний вскрывается у него «слишком глубокая рана в сердце». Поэтому он лишь намекал на то, что однажды сильно расстроился, когда, вернувшись с работы домой, застал свою молодую красивую жену в постели с каким-то лопоухим прыщавым мальчишкой. Далее он говорил, что, может, «незаконное прелюбодеяние» ему показалось как человеку уже пожилому, пожившему, судьбой изможденному и тяжко контуженному в борьбе за социализм на Дальнем Востоке. Хотя он, увидев такое дело, и вынужден был немедленно закричать: «Ты и сюда залетел!». И тотчас за револьвер схватился. Он мне однажды вечером показал, как он, закричав, схватился за стальную рукоятку револьвера. И тут же пояснил, что схватиться-то он схватился, но отчего-то не выстрелил. Что-то удержало его от стрельбы. При этом, по его словам, мальчишка сразу, как только увидел направленное на него дуло, «сходил под себя по-большому, а жена по-маленькому». (Дисбактериоз?)
Рассказывал полковник и о камикадзе, прибывшем по воздуху со стороны Острова Восходящего Солнца. И всякий раз, рассказывая о камикадзе, он громко хлопал в ладоши. Камикадзе смертельно пугался и поворачивал назад. Один раз, правда, что-то такое произошло (вроде чай пили), и Сергей Львович в ладоши хлопнуть не успел. Тогда-то прилетевший и врезался в землю в нескольких метрах от того места, где чай пили. Голову в шлеме после нашли. Полковник оказался в госпитале.
О современной жизни Сергей Львович отзывался с уважением, хотя и слышался легкий скепсис в словах его.
Иногда он вслух размышлял о том, что, по его данным, где-то есть высокие напольные часы в деревянном темном футляре, с медными гирями и белым циферблатом. Он был уверен, что часы когда-нибудь отзовутся малиновым звоном. Лицо его принимало мечтательное выражение. Он закуривал, глубоко затягивался и, выпустив в каптерку дым, говорил: - «Сижу я тут с вами, а сам их слышу. Душевно часики отзываются! Прямо как родного дядю ждали!».
Большое меню
Товарищ мой был самый родной мне товарищ, и если бы он в конце того же октября не ушел с головой в блестящий свой реферат и в коридоре каменной ВПШа не пикировался с Дроцким, то наверняка узнал бы от меня обо всем остальном. Вот прихожу я к нему на шестой этаж и вижу его за работой. И все стеклянные рожки в люстре горят. Лебедь на комоде. Мама за шторой на машинке печатает. Или вот он, притомившись писать реферат, на диване лежит в своем «джазовом» пиджаке и носках оранжевых. И по всему видно, что он почти совсем готов к тому, чтобы не накричать на меня по поводу заначки в шкафу, а внимательно выслушать обо всем, что наполняет мою трудовую жизнь на окраинном пустыре.
Например, о таком важнейшем моменте, который иначе определить невозможно, поскольку сама по себе важность момента не поддается определению. А заключался он в том, что никогда я не видел бывшего полковника во вновь пошитом двубортном костюме. Такой костюм он собирался надеть по случаю окончания разметки нашей строительной площадки. При том что пошить двубортный костюм Сергей Львович был, конечно, в таком же своем праве, как и однобортный.
К празднику конца разметки собирался он и выходные сапоги у чистильщика-армянина сперва двумя щетками почистить, а после бархоткой отполировать, и в баню сходить, и посетить парикмахерскую, где, соответственно, одеколоном после стрижки и вспрыснуться. Однако и без вспрыскивания выглядел он всегда помытым и причесанным, надевая плащ-палатку лишь по случаю внезапного ненастья или затянувшейся непогоды.
К тому же празднику собирался он подкупить редких в ту пору свежих приплюснутых узбекских помидор. Мне он сказал, что, когда мы всё закончим, он обязательно припрет в нашу каптерку целый пакет узбекских помидор. Не уточнил, в каком из ближайших узбекистанов возьмет, употребив лишь «техническое» слово, которое я слышал однажды от Тыквина: «распределитель».
Спрашивать у Сергея Львовича, что такое «распределитель», смысла не имело, и я слушал дальше. И вскоре оказывалось, что к праздничному столу он постарается подготовить твердую австрийскую колбасу – всю бугристую палку. А возможно, что и гуся с яблоками. Вот тебе праздник, а вот тебе гусь. Кроме того, в его праве для вновь сервируемого стола приволочь: швейцарский сыр, огурцы нежинские, бахчисарайский портвейн, крабы, черную и красную икру, мясо копченое, укроп пушистый. А можно еще взять и чисто по-человечески нацелиться на мандарины, миноги, ветчину, конские почки, пряности, малосольную семгу, козье молоко, лапшу китайскую. Однако ни я, ни мой товарищ по старому дому даже в разгар самых наших чувственных посиделок никогда бы не объяснили, почему ничего похожего невозможно было обнаружить на столе полковника в весьма протяженных по длительности промежутках между праздниками.
Думаю, что Тыквин понял бы меня и в ином направлении. Он бы запросто уловил кое-какой смысл, если бы я ему в комнате на шестом этаже рассказал, насколько по-своему Сергей Львович любил вечерние мерцающие огоньки и гудки поездов на Ярославском перегоне, радовался крику петуха в деревне, с каким превосходным умением собственноручно натягивал велосипедную цепь и с какой завидной очевидностью знал все светила на небе, включая Солнце и Луну. Он с закрытыми глазами запросто ориентировался на любой местности по запаху лишайников и мхов, по маху грачиных крыльев.
Естественно, что с какого-то момента в воображении Сергея Львовича – сперва смутно, потом более отчетливо – принялось прорисовываться нечто похожее на невероятный объект. Мерещилось вначале что-то несусветное и мало походившее на советский Эмпайер Стэйтs Билдинг. А потом вся эта поразительная архитектура стала превращаться в огромное здание типа Отеля Разбитых Сердец, площадку под строительство которого мы только еще начали размечать и, по срокам, должны были закончить аккурат к декабрьским морозам, хотя по всему получалось, что было бы замечательней к ближайшим праздникам завершить.
Понятно, что не только полковник, а вообще никто из наших мужиков в каптерке не собирался ничего затягивать, откладывать на потом или грубо пролонгировать разметку. В конечном итоге мы должны были в полуовальном окошке строительной кассы получить хорошие денежные премиальные, однако не разойтись, а кое-что продолжить делать дальше.
Поэтому редкий день в октябре того же года проходил без каких-нибудь выдающихся событий. Однажды от Смирнова с Кузякиным куда-то спрятали их общий стальной гвоздодер, и оба плотника два дня в обнимку разгуливали по всей площадке и площадно материли всех и каждого. Блохи закусали сначала рыжего строительного кобеля Брыкина, а затем и рыжую суку Дыкина, которые страшно тряслись. Не обходилось и без того, чтобы Сергей Львович при первой же возможности выводил всю бригаду на площадку и, стоя напротив сплоченного коллектива, ясно и выразительно показывал всем, что будет вот тут, а что будет вон там. Вот тут зимний сад, а там ввысь взметнется шпиль бухгалтерии. А вот тут некое секретное помещение управления радиорадаром. На тот случай, ежели какая сволочь или скотина захочет по зданию с воздуха ударить. Он признавался, что примерно с ноября 1946 года ненавидит Черчилля и заокеанский империализм, считая их основными виновниками всевозможных затяжек и иных подобных провокаций.
О наличии кадровички Голубятниковой он, безусловно, догадывался, а то и просто знал, что есть у нас на будущем строительстве такая приземистая женщина с такой пернатой фамилией. Однако не предполагал, что у меня что-то может быть с этой приятной белокурой Голубятниковой. А то бы наверняка утром вбежал в каптёрку и что-нибудь выкрикнул. Громко и отчетливо указал бы моей любовнице, где она, по его мнению, обязана находиться. В какой каптерке, с кем и на каких телогрейках. Ясно, что и она бы в долгу не осталась. И она бы сказала полковнику: - «А не надо кричать. Я – свободная женщина. А мужика у меня вот уже два года не было. И вы, Сергей Львович, вместо того чтобы мешать людям коитусом заниматься, лучше бы список мне отдали вашей бригады. А то я так и не знаю, скольких из ваших людей на премиальные подавать, а скольких не подавать».
Подходящий момент
Как-то раз Сергей Львович выкурил подряд штуки три очень крепких папирос с изображением Обводного канала на серой бумажной пачке. Мне показалось, что внутри его что-то успокаивается. Теперь он, наверное, к хорошему более расположен. Он теперь понимает, что всё происходящее – не по его воле, и это злые силы рока мешают человеку честно исполнять его прямой долг. Я догадался, что под воздействием выкуренного он внутренне оттаял, расслабился, и самое время обратиться к нему по какому-нибудь важному, хотя пока еще не совсем ясному для меня вопросу. По высшей геодезии, по аналитической картографии, по праздничному гусю с яблоками, а то и по вопросу семьи, или еще по какому-нибудь. По техническому составу военных частей, по площади войны и ее размаху, по накалу боев, по фамилиям высших военных начальников. Внешний вид залетного камикадзе тоже являлся предметом моего почти непрерывного любопытства, и я намеревался когда-нибудь поточнее выяснить, какое же все-таки у японца-смертника оказалось выражение перед ударом об землю и последующим взрывным отрывом головы. Однако всякий раз необходимо было действовать с большой осторожностью. С тем чтобы не вспугнуть полковника в его постоянном и терпком желании откровенно выражаться.
Вместе с тем я из бесед с Сергеем Львовичем уже вынес, что о семье он предпочитает мало говорить либо вовсе не говорить. Он всякий раз подобный разговор переводит на другую тему, обыкновенно касающуюся военной техники, моего будущего вступления в ряды ВЛКСМ, австрийской колбасной палки или неприятного случая на берегу монгольской реки Халхин-Гол. И всё же безудержное юношеское любопытство тревожило меня. Мне хотелось понять: почему жена его бросила перед самой денежной реформой? В какой день недели это произошло? Какие были сказаны слова? Были ли слезы, рукоприкладство? В какой пропорции и какие вещи поделили: посуду, стулья, постельное белье, швейную ножную машинку с механическим приводом марки «Подольск», электроутюг, всё остальное?
И в этой связи весьма любопытно заметить, что, когда я устроился на работу, он мне показал фотографию какой-то блондинки и сказал, что это и есть его Галина Аркадьевна и что ей на фотографии не больше восемнадцати лет. Потом он мне показал ту же самую фотографию, но уже брюнетки и стал говорить, что Галине Аркадьевне на ней не больше двадцати лет, а после, показывая мне одну за другой множество фотографий, утверждал, что на каждой из них ей почти уже двадцать семь. Больше он мне ни одной фотографии ни блондинки, ни брюнетки не показал, так как его настроение всё время менялось, и мне казалось, что это – не один полковник, а сразу несколько разных полковников, которые причудливо проживают друг в друге. Я не хотел углубляться в то, каким образом возможно подобное проживание, и гнал от себя странные мысли.
Сын американских коммунистов
Однажды первая звезда появилась на небосклоне. Довольно-таки яркая звезда и, должно быть, по мощности излучения отличная от звезд тусклых.
Я застал в сумерках Сергея Львовича. Он в одиночестве, редком для нашей каптерки, сидел за столом. Его фуражка без звезды была не на нем: фуражка лежала где-то неподалеку. Я сказал ему: - «Вы ради бога простите меня, Сергей Львович!». А он мне сказал: - «Да ладно вам, Армяков. Чего уж там, в самом деле. Садитесь, коли пришли…».
Я сел.
- А уж коли пришли, - продолжил он, - то скажите мне сразу: вы у вашего друга что-нибудь выяснили?
На что я сказал, что мало что успел выяснить: Элвис Пресли виноват.
- Кто?
- Элвис Пресли.
- Это кто?
- Заведующий кафедрой политической экономии.
- А имя почему такое?
- Он – сын американских коммунистов.
- Ну тогда ладно… Но вы уж давайте, вы уж постарайтесь, чтобы у друга-то хоть чего-нибудь выяснить, - сказал Сергей Львович и, помолчав, добавил:
- А то сами знаете: разметку следует к декабрю всю закончить, хотя получше будет к праздникам уложиться. Да, это – самое лучшее… Да… все-таки к праздникам… к ним всё бы и завершить… А площадь, какую следует разметить, вон какая огромная раскинулась за окном, аж желтой травой поросла… А вот если мы всю площадь разметить не успеем, то тогда, сами знаете, что.
- Что?
- Хана нам тогда. Пиздец, по словам лысого госпитального доктора. Денежной премии никогда не видать. Голубятникова ни за что не подпишет.
Мы с ним во время столь важного разговора сидели, отвернувшись друг от друга: он глядел на железную печку, я – в окно. Потом Луна появилась над лесом. Это была вогнутая, новая и приятная Луна. Тогда мы друг к другу повернулись и при свете Луны стали оба самым внимательнейшим образом смотреть друг на друга. Наконец полковник глубоко вздохнул, встал, зажег лампочку и прошелся по каптерке. Затем он сел и стал сидеть очень прямо, расправив плечи и положив обе ладони на колени.
Любопытно, что кто-то из наших мужиков время от времени заходил в каптерку и с участием спрашивал о том же самом, что и я. На что Сергей Львович, продолжая разглядывать печку, отвечал:
- Уж вам неймется в душу к человеку влезть. Уж вам неймется! Иной раз гляжу на вас, а сам никак не пойму: люди вы все такие или скоты какие?
Сильный удар
Начало давнего ноября, похожее на давний конец октября. Вчера еще дождик был, а сегодня уже зима. Пурга за окном. Почти сказочная. Почти такая, о какой в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» сказано: «Беда, барин, буран!». В такую погоду, бывало, Сергей Львович войдет, ногами на пороге потопает, холода полное служебное помещение напустит, недовольство у людей вызовет, затем садится, папиросу закуривает и, солидно отмолчавшись, говорит:
- Эх, мужики! Ну кто я такой? Всего лишь герой битвы при Халхин-Голе, и то, конечно, чтобы не соврать насчет этого. А после довелось мне, мужики, всю огромную войну пройти с танковыми боями на море и на суше. Самого Сталина, вот как вас теперь, видел. А в мирное время - Хрущева, Джавахарлала Неру, Петьку Семичастного, еще кое-кого и, конечно, Брежнева Леонида Ильича и Андропова Юрия Владимировича… А кто такой я теперь? Кто такой? Да я никто теперь. Так, пожилой гандон в шинели. Ну, начальник я над всеми над вами и над вот этим пареньком, которого, смею надеяться, в самые сжатые сроки сама жизнь на ком-нибудь жениться заставит и обязательно куда-нибудь дурака учиться навострит... А люди другие куда поважнее будут, нежели я. Ну! Куда там! Им, стало быть, понужней. Вот и жрут, суки, охуевающе вкусный продукт!
Тут он, охваченный тоской и грустью по прошлому и настоящему, широко размахивался и с размаху ударял кулаком по столу. Поступок получался оглушительный. Всякая каптерочная дрянь, вся грубая сервировка, включая грязные стаканы и черную сковородку с толстым слоем застывшего жира, пустые папиросные пачки, вилки и ложки, хлебные корки, тряпки, окурки и спичечные коробки, взлетали от удара в воздух и некоторое время носились по воздуху над головами людей, пугая их сильно, разве что не на смерть, поскольку люди давно уже привыкли к проявлению чувственных ощущений бывшего полковника в отношении того места, где высокие напольные часы звенели малиновым звоном.
А случалось и так, что я совсем уж готов был к тому, чтобы, вернувшись вечером домой, позвонить Александру Петровичу. И не забавы ради, а для того, чтобы подробно рассказать ему что-нибудь еще более «гламурное», чем рассказанное выше. Определение «гламурное» Тыквин, при всей его начитанности, еще не знал. Он просто и наверняка догадывался, что когда-нибудь обязательно наступит эпоха торжества этого гладкого и любвеобильного слова.
Вместе с тем я не сомневался, что на дворе пока еще другая эпоха, и для этой «другой эпохи» весьма характерно, чтобы кто-нибудь из наших мужиков стакан граненый жахнул в обед. А перед этим следовало «по рваному сгоношить». Так тогда говорили. Что я теперь должен делать? А если бутылка оказывалась так называемой «целкой», то есть с прозрачной пленочкой на горле? Наличие пленки на горле бутылки считалось редкой удачей, приметой к добру и к премии. Короче, вот жахнет, ахнет, дух переведет, утрется, а затем начинает громко, весело и с кое-какой жестикуляцией рассказывать и даже показывать, что у моего непосредственного начальника, как у всякого безнадежно армейского человека, есть в личном распоряжении оружие, вроде боевого огнестрельного пистолета с настоящим дулом. Лучший в мире наган из всех на тот день известных. Ясно, что этому сразу можно было поверить, но я не верил этому. Со скепсисом относился. А зря. Ведь я сам видел, как Сергей Львович однажды с двадцати шагов стрелял по стеклянным бутылкам из-под водки и портвейна, поставив их все в один ряд на забор. Он был в фуражке без звезды и в плащ-палатке на плечах. Он был похож на самоходный шалаш. Он стоял, расставив ноги в черных сапогах, и что-то кричал. Мне показалось, что он сперва крикнул знакомое: «Батарея, огонь!», а потом еще что-то крикнул. А после я увидел, как он целится. А еще увидел, как бутылки одна за другой стали вдруг разлетаться так, словно в них пули попадали. А пуля, должен заметить, когда выпущена из настоящего боевого оружия, очень в полете имеет большую скорость. Это – главный закон баллистики. Это – наука такая. О том, как пуля летает и по какой траектории. И сила удара ее по бутылке, когда выстрел производится с двадцати шагов, чрезвычайно велика. Эта сила такой мощи, что всякая бутылка, как из-под водки, так и, в сущности, из-под любого портвейна, вполне может быть расколочена пулей вдребезги. Во все стороны осколки полетят. А если выстрел производится вдобавок в солнечный весенний день, то еще заблестит, засверкает на солнце какой-нибудь летящий осколок бутылочного стекла. То же и осенью, в какой-нибудь яркий, но холодный октябрьский день.
И всё же нет уверенности у меня в том, что бывший полковник, мой непосредственный начальник, стрелял из такого вида боевого оружия, каким являлся его личный огнестрельный пистолет. Нет, он, возможно, и стрелял, но не по бутылкам, а по грачам. А возможно, что и вовсе не стрелял. Он только отошел на двадцать шагов и стал кричать: «По камикадзе огонь!». А тем более что по гражданской специальности он был никакой не стрелок. Он был высококлассный геодезист 7-ого разряда по его гражданской специальности. И мой прямой начальник. И верил он, безоговорочно верил в то, что при всех известных «за» и «против» везде и всюду отечественный коммунизм будет. Не сразу, а когда-нибудь. То есть когда-нибудь произойдет его всеобщее наступление. И будет всем хорошо, везде и всюду. Но в каком случае? А в любом случае. И в обратном убедить его практически невозможно было. Он очень злился и становился страшен и неуживчив, когда кто-нибудь пытался его в обратном убедить. Скажем, в сторону его отзывал и, обняв его, как родного, за плечи, выводил на открытый воздух и на открытом воздухе пробовал его успокоить:
- Да ладно тебе, Сергей Львович. Ну что ты, ей-богу. Всякое ведь может быть. Ну накрывается данная общественная политико-экономическая система. А какая не накрывается? Ты мне сам скажи. А? Какая? А? Ну? Ты не молчи. Ты мне сам скажи. А? Ну? Чего?.. Ты сам-то подумай. Система и чтоб не накрылась!
Один раз он не выдержал. Два дня молча слушал. А на третий день отвел человека за служебное помещение и, поставив его спиной к деревянной свежевыкрашенной стенке, стал на него кричать:
- Ты мне какого хера политическую экономию объясняешь? Я всю экономию на практике прошел. Ты Армякову иди объясняй либо Смирнову с Кузякиным. Им и иди. А то Черчилль у них тут, врачи по женским болезням, продовольственные склады, гуси с яблоками! Вот сволочи! Вот скоты! Вот бляди! Вот пидарасы! Они и стола-то в каптерке порядочного сколотить не могут! Ну, фраера! Ну, коммунисты!
И с этого момента я стал подозревать, что что-то надломилось в нем. Что-то случилось с характером его. И подтверждением моих подозрений явилось то, что он стал все чаще срываться и беспричинно кричать. Дошло до того, что один раз он кого-то чуть не убил, стукнув человека по спине моим прибором Данжона. Схватил прибор и стукнул им – прямо человека по спине. Тот скромно ахнул и, попытавшись напоследок схватить ртом глоток воздуха, упал, как пальто с вешалки. Мне кажется, что все это было неспроста.
Люди с документами
Трудно забыть еще один ясный погожий день. Все можно забыть, а погожие дни нельзя. Хотя бы и прохладные. Первое: их в жизни человека не так много. Второе: не вся жизнь, увы, состоит из погожих дней. Вот на теплом берегу летнего Черного моря. Там толпы голых женщин, пальмы, бочки сухого вина, широкая набережная, шуршание пляжной гальки, милый прибрежный запах, местный виноград и полно сочных персиков в пушистой кожуре. Музыка отовсюду. Там жизнь вся сплошняком состоит из одних только радостей. А если взять конец октября в столице, когда мелкий мусор с неба и без поднятого воротника из дома не покажешься, то тогда жизнь из одних только радостей не состоит. И третье: в один из ясных (и погожих) дней к нам на строительство приехали двое гладко выбритых одутловатых товарищей. Один из товарищей (тот, что поменьше ростом) был в золотых очках и серой шляпе, а другой был без очков и не в серой шляпе, а в какой-то еще. А третьего вообще почему-то не было в этот раз, а то бы и он мог быть, как и оба его соратника, в такой же шляпе и таких же ботинках. Сияющих. Скандинавских.
Они прибыли к нам с восточной подветренной стороны. Полы их черных тяжелых пальто были щедро распахнуты. Парадные ребята!
- Вот бумага! – громко сказал тот, что в очках. - Прочтите и распишитесь в получении!
- Мне тут расписываться? – поинтересовался стоявший на крыльце полковник.
- Нет, распишитесь лучше вот тут! – громко сказал второй и снизу вверх поглядел на полковника.
Полковник из глубин плащ-палатки вытащил толстую перьевую авторучку с надписью на черном боку золотыми буквами «Это тебе, Сережа, от Блюхера». Вытащив ее, он со словами «Вот скотство!» ручку подарочную несколько раз встряхнул, затем нагнулся и расписался не там, где велели, а где-то неподалеку.
Расписавшись, он во весь голос крикнул Кузякина и Смирнова, которые, по своему обыкновению, стучали молотками на северо-востоке, сколачивая там что-то вроде каптерки или обеденного стола.
Полковник кричал долго и зычно, будто не им, а кому-то еще. Сначала в небольшую форточку, а потом с крыльца. Добавлю, что его фуражка без звезды в форточку не проходила, а вот в дверь прошла.
Смирнов же с Кузякиным вскоре снаружи появились и, не обратив внимания на продолжавшего кричать полковника, оба сказали: - «Носки-то на трубе почти уж высохли, едри их в качель!». Тут же оба они куда-то ушли, но вскоре опять появились с блестящими глазами и еще более довольными лицами, чем до ухода. Оба не успели прожевать и, продолжая жевать, в один голос спросили:
- Опять что ль где замандёхать чего?
- Я вот вам сейчас замандёхаю, козлы, - беззлобно ответил полковник. - В рамку и под стекло вставить!
Они молча взяли бумагу и унесли вставлять, а полковник вошел в каптерку и, не сорвав фуражки с головы, на всю нее заорал:
- Отныне вы все, скоты, трудиться будете по данному письменному указанию. И упаси вас бог не сдать объект в указанные сроки. Всех к сучьей матери выгоню на Красную Площадь снег чистить!
Тотчас все повскакали и куда-то бросились. В дверях – шум, толкотня, ругань. Поваленные табуретки. Наконец в помещении стало пусто и тихо. Так тихо, что было слышно, как гудят в электроприборах нагревательные элементы, и молчат грачи на улице. Тогда он тех выбритых, которые были в распахнутых пальто и которые бумагу привезли, мягко, почти с радостью пригласил:
- Пожалуйте в каптёрочке к чайку. Армяков, мой юный помощник, утречком заварил. И колбаска у нас отдельная есть: вон на газете пахнет. И пара яичек куриных. Подарок Колумба. А ежели чего на душу принять, так мы сейчас же организуем. Не откажите, граждане одутловатые, чего-нибудь на душу принять. Зима же ведь все-таки вот-вот нагрянет! Снег на площадке выпадет. Стаи грачей на юг полетят!
- Нет, мы оба спешим, - отказался один из прибывших и не сразу добавил: - Нам дубликаты назад в Головное управление отвозить, а вечером ему вот в театр оперы и балета, а мне в «Прагу» на банкет. На свадьбу к свояку.
- Ну, бог вам судья, свояку и всему управлению! А жениху и невесте младенца толстого!
Они развернулись и с их портфелями исчезли за забором.
Я же вышел из каптерки на воздух. Погода – просто прелесть. Я руками на воздухе взмахнул, затем присел, выпрямился, еще раз присел, еще раз выпрямился, а затем, когда немножко размялся, воткнул треногу оптического прибора в землю и, наблюдая небо и птиц в объектив, сказал сам себе: - «А врут бумаги. Всегда врали и теперь врут!».
В тот день я больше не работал. Сославшись на кое-какие личные обстоятельства, вроде срочной сдачи в стирку постельного белья с дивана, я сел в автобус и поехал домой.
Яркое оранжевое солнце садилось за дома. Сверкали стекла. На улицах были троллейбусы, прохожие и много легковых машин.
Новые уточнения
Теперь кое-что сказать надо для уточнения, а то если для уточнения ничего не сказать, то и товарищ мой ничего не поймет, и вообще всё окажется слишком приблизительным. Вы с этим согласны?
Но даже если вы не очень согласны, все равно скажу вам вот что: у нас все люди на огромной площадке будущего строительства постоянно делали свое дело. Все они были людьми ответственными. И если до сего дня осталось что-то недоделанным, то только по недоразумению, по роковой ошибке, из-за катаклизма, который ни от кого не зависит. Иной раз так тряханёт, так ударит, что ниоткуда выбежать не успеешь, чайник не успеешь вскипятить. Вот, скажем, у нас. С самого начала не составляло ни для кого никакого труда вырыть, к примеру, траншею. Какую? А все равно какую. А собак свистками погонять? А про коитус погутарить? А про китайцев? А супчика в обеденный перерыв или яичка крутого? А какие нам судьбоносные небесные знаки подавались, чтобы в компании шумно тяпнуть или же спереть чего, что каждому обязано и должно в его домашнем хозяйстве пригодиться! А я еще, дурак, с оптическим прибором Данжона на плече почти что целыми днями бегал по всей огромной площадке. Прямиком от забора на востоке до забора на севере. Это случалось со мной всю дорогу, когда я на промасленных телогрейках не отдыхал и появления не ожидал Луны в окне небесной. А Сергей Львович? Крупный технический полковник в фуражке без звезды, скончавшийся, кажется, в 1997-ом неподалёку от трамвайной колеи, в палате N18 старинной больницы, известной под именем «Павловские клиники»? Он же ведь был одним из лучших в мире специалистов и непревзойденным фанатиком размётки. Он ходил за мной в своей плащ-палатке, стрелял из пистолета по грачам и бутылкам, а в промежутках между стрельбами в сотый раз объяснял, что и где предполагается возвести: вот тут взметнется ввысь шпиль центральной бухгалтерии, вот тут – основной департамент отдела кадров. А вот здесь, товарищ Армяков, предполагается для прогулок подвесной зимний сад с музыкой и цветной иллюминацией. Ну, что-то вроде бразильского карнавала с голыми мулатками, но без скотоложства и педрил. «Это уж, скажу я вам, товарищ Армяков, почти решенное дело. Это уж, знаете ли, совсем решенное дело!». И на торжественную церемонию открытия приедут генералы и весь сводный оркестр ПВО. Потом – танцы, смех, веселье, шутки, песни, анекдоты, опять смех, опять танцы, веселье, снова шутки, а еще – гусь с яблоками внутри и сто сорок ящиков французского шампанского: на весь период торжества. Конечно, он любил шампанское, хотя пил его редко, вспоминая тот привокзальный ресторан и ту аккуратную брюнетку, которая сидела за соседним столиком и весело смеялась. Почувствовав, что смотрит на нее бравый военный в усах, она перестала смеяться и кивнула Сергею Львовичу; затем встала из-за столика и быстро вышла из ресторана. Он тут же с места сорвался и бросился за ней; но поезд уже тронулся. Больше они не встречались.
Был ли уверен Сергей Львович в том, что стройка когда-нибудь не только кончится, но и начнется?
Думаю, да. Он был уверен. И я был тоже уверен. И даже, наверное, долговязый товарищ мой, который, правда, утверждал, что до конца ни в чем не уверен. И в этом он ни в коем случае не был похож ни на какого полковника. Даже на бывшего.
А бумаги с разнообразными указаниями приходили одна за другой. Их привозили к нам каких-то то три, то два очень прилично одетых человека в тех же пальто и ботинках. Они приезжали чаще всего на автомашине «Волга» с куда-то устремленным оленем на капоте, а иногда приходили пешком и так же пешком уходили. При этом ничего ясного и конкретного из привозных бумаг не вытекало. Кроме требования «ускорить темпы разметки».
Сергей Львович делал все возможное и невозможное, чтобы ускорить темпы. Нагрузки испытывал колоссальные. Вскоре он стал в сроках путаться и то про четверг говорил, то про пятницу. Якобы ему вчера из Управления домой позвонили. Что-то сказали. Он очень удивился. Они опять что-то сказали. Он еще сильнее удивился. Они повесили трубку. Потом оказалось, что всё на среду перенесли, а после – на воскресенье. И месяц сдачи в строй был сперва на самом деле декабрь, а после стал март. Но не того года, о котором речь, когда я только еще, обдумывая все «за» и «против», собирался где-нибудь познакомиться со своей будущей женой или супругой (можете называть, как хотите), а совсем другой год, когда я уже давным-давно с ней познакомился, хотя и не помню, где именно, а после еще лет семнадцать прошло, а то и все двадцать пять с конца того октября, вплоть до авиационной катастрофы в безоблачном небе над Средиземным морем. Тут, возможно, я сам немного в сроках запутался, тогда как полковник Стёгин был абсолютно уверен, что когда-нибудь наше бесконечное строительство не только начнется, но и к концу подойдет. А когда подойдет, то есть под звуки сводного оркестра столичной дивизии ПВО и в присутствии генералов будет сдано в строй невероятное по высоте и масштабам здание, то тогда, без всяких дураков и без всяких глупостей, вот тут, в подвале, расположится склад продуктовый с хрустальной люстрой на потолке, а вот тут, за дверью за железной – секретное помещение управления радиорадором. На тот случай, ежели «какая заокеанская сволочь или скотина» захочет по зданию с воздуха ударить.
ЧАСТЬ IV
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Тот же сон
Итак, я работал километрах в двадцати от электрической лампочки в моей двенадцатиметровой комнаты, а Тыквин учился на некотором расстоянии от пятирожковой люстры в комнате на шестом этаже. Он был студентом высшего учебного заведения, куда он ездил на трамвае и которое при мне не без гордости называл: «ВэПэШа». Я приходил со службы усталый, выжатый беготней, а то и злой на начальника, явно и навсегда пострадавшего от взрывной волны на берегу монгольского водоема. На двух видах транспорта, ругая его тесноту, духоту и многолюдье, я добирался до своей комнаты, а мой товарищ, не дав мне и ботинок снять, по телефону звонил и спрашивал, когда «на моей улице будет праздник получки». Вы понимаете, какие слова подмывало меня сказать ему во втором часу московской ночи.
Тем не менее, несмотря на все слова и звонки, я бы тогдашние условия нашей жизни и возмужания охарактеризовал как «вполне благоприятные». Почти уверен, что Александр Петрович согласен со мной. Он мне сам говорил, что человек, когда у него всё еще впереди и многое еще предстоит сделать, обязательно посреди ночи попробует не захлебнуться в рвотных массах. Больше того, он, если останется жив, с мыслями соберется и охарактеризует условия жизни как «самые благоприятные». Якобы у него в правом полушарии головного мозга зона надежды сосредоточена.
Совсем другое дело – его малоуспешный, почти бесконечный роман с белокурой талантливой американкой, Нормой Джин Бейкер. Не знаю, какая зона и в каком полушарии отвечает за такие романы, но Александр Петрович был на редкость постоянен. Он прочитал о Норме Джин (настоящее имя киноактрисы Мэрилин Монро) всё, что ему удалось прочитать и что не удалось, и при первой же возможности шел в кинотеатр «Центральный» (его давно уже снесли, как и ближайший к нашему дому гастроном «У лётчиков»). В «Центральном» он приобретал в кассе шершавый бумажный билет за 20 копеек (их ему давал я) и в разреженной темноте кинозала смотрел фильм «Некоторые любят погорячее» с участием великой американской актрисы, где она выступала в качестве белокурой партнерши двоих других великих американских актеров, переодетых, по замыслу авторов картины, в комических женщин.
Однажды он мне позвонил и рассказал о своей могучей утренней эрекции, указав на неизбежное ее влияние на судьбу человечества. Случился его звонок в один из ветреных октябрьских вечеров того же года. Как раз у соседей Эдита Пьеха пела по радио, грустно и по-итальянски. Я соснул за столом. Мне Красная Площадь приснилась, военный оркестр.
Утром я проснулся и подумал, что по-прежнему от моей комнаты на третьем этаже до места моей работы – километров двадцать наверняка, а до авиакатастрофы в небе на Средиземным морем лет двадцать пять, а то и все тридцать. Путь долгий и тяжкий. Сначала на метро с двумя тяжелыми пересадками на Комсомольской площади, затем на автобусе – до Конечного круга. Мы неподалёку от круга что-то вроде строить собирались. Что именно? Теперь какая разница. Это кому теперь интересно. Ну, собирался я, с подачи моего товарища или еще кого-то из неунывающих центровых людей, назвать будущий крупный, фешенебельный объект «Отелем Разбитых Сердец» в честь одноименного блюза в исполнении Элвиса Аарона Пресли. Ну и что? Совершенно неважно, как и что называть. К тому же случай мой частный. Быть может, что-то мне померещилось, что-то привиделось. Так тоже можно сказать. Но должен напомнить: не только мы тогда раззадорились площадку размечать, и всей бригадой размышляли о возведении на той же площадке огромного будущего здания с горельефами и шпилями. Вместилище снов. Это - по документам. Да, именно по казенным бумагам, в которых все печати, подписи, грифы. А если взять такую бумагу и сквозь нее на Луну поглядеть, то тогда можно увидеть водяной знак в виде какой-то взъерошенной птицы. И ненависть моя значительна к такого рода казенным бумагам. Но жить человеку разве можно без них? Разве можно без них обходиться?
Мне, кроме того, хотелось выяснить, почему, скажем, с подачи какой-нибудь приземистой кадровички или отъявленного кадровика крупными денежными премиальными награждают одних, но крайне редко награждают других: они ведь тоже хотят. То же – орденами и медалями, хотя с ними полегче, попросторней. Денег мы тебе не дадим, а медаль ты получишь на грудь. Я стал выяснять, почему это так. И ни шута не выяснил, простояв почти весь субботний вечер перед широкой центровой витриной, за которой сидел, похожий на Фрэнка Синатру, часовщик в белом халате и с лупой в глазу.
Торжество отправлений
Согласно корявому рукописному графику на стене, один-два раза в месяц была моя очередь убирать в местах общего пользования. Я ненавижу места общего пользования. Я презираю их. Я полагаю, что каждое такое место должно быть пользования строго индивидуального. Оно и по интерьеру должно отличаться от всех остальных. При этом я не сомневаюсь, что теперь, когда все наши с Александром Петровичем самые смелые мечты нашли своё материальное выражение, когда в обиход вошли электронные унитазы и компьютерные писсуары, стульчаки с изменяющейся геометрией, мягчайшая туалетная бумага, способная не только очко вытирать, но и разматываться самостоятельно, когда почти к каждому пользователю все сантехнические удобства повернулись лицом, – тогда-то и превратилось отправление естественных нужд в бесконечный праздник, который, по моему глубокому убеждению, навеки останется с нами и навсегда.
А за много лет до «торжества естественных отправлений» я, повторяю, должен был вручную мыть и тереть всеквартирное место общего пользования. Хотя бы раз в две недели. С мылом и щеткой. А там трубы текли, сливной бачок ломался, лампочка перегорала, и соседи, посещавшие это место, бумажки разбрасывали.
Короче, я в тот период моей жизни почти ничего более существенного не запомнил. Наверное, память моя опять виновата. Что же еще? Вот и не вышло у меня запомнить ничего такого, что бы мог я в свои записки вставить. Кроме осени, громадной и пустой площадки на окраине городе, железного автобуса, двоих плотников, одного бывшего полковника, пары рыжих строительных собак, одной кадровички в зеленой шляпе и почти круглосуточной суеты в самом центре Москвы. Вон там, как сейчас помню, – прохожие на тротуарах и фонари на столбах, а там – что? Да, там-то – что?.. А то мое воображаемое путешествие в поезде «Кинешма-Харьков» и белое одноэтажное здание провинциальной станции посреди выжженной солнцем степи – не в счет.
Чудеса географии
Однажды в наших поздних беседах с Александром Петровичем появился северный город с разводными мостами, длинным проспектом и пронизывающим ветром с залива. Был и другой город, поменьше. Небольшой городок, напоминавший поселок городского типа, где чьи-то шаги в чужом и пустынном подъезде, а на плите – хозторговская сковородка с ручкой и толстым слоем животного жира на дне. Товарищ приходил ко мне, садился в комнате на стул и с упоением рассказывал о том, с каким достоинством из смежной комнаты выходила простоволосая заспанная женщина в желтом халате на голое тело и, помятая, спрашивала: - «Вы по утрам жирные щи кушаете или вам чего-нибудь попостней?». Так что вполне вероятно, что тот городок был все-таки не совсем Тьюпело, где, согласно официальной биографии, родился Элвис Аарон Пресли.
Несопоставимость географических пунктов усугублялась еще и тем, что Александр Петрович пытался мне не обратное доказать, а что-то такое, что доказать, по-моему, невозможно. Ради этого он молча вставал и вытаскивал из бокового кармана не учебник гинекологии и акушерства для средних медицинских училищ (что можно было предположить), а малый географический Атлас мира. Раскрыв Атлас и тщательно сверившись с ним, он мне говорил: - «Да как ты смеешь, Армяков, сомневаться!» Потом он говорил, что никогда не может быть любое его доказательство вопиющей ошибкой. - «Вот Атлас. А вот в нем Москва. А вот площадь имени Чкалова. Ты видишь в Атласе площадь имени Чкалова?» Я площадь не видел, но говорил, что вижу. - «А приземистых хулиганов под негорящими фонарями?». Я говорил, что вижу и фонари, и хулиганов. Он водил пальцем по политической карте мира и останавливал его в районе Люксембурга; после чего утверждал, что данная небольшая страна – родина музыкального радио. С этим я тоже соглашался. А также с тем, что Атлас – одно из достижений человечества. Еще на закате Римской империи он был впервые составлен не грубыми германскими варварами, а умными и знающими людьми, поэтому врать он может.
- А ты, Александр Петрович, можешь?
- Нет, и я не могу.
- А если жизнь заставит?
- А я и тогда не смогу.
Что к этому добавить? Ничего. Разве что только то, что было в нашей жизни и осталось в ней навсегда. И грезы, и путешествия, и музыка по ночам, и фривольные картинки, и дешевый портвейн, и кинематограф. Был и железнодорожный мост через речку, и яблоневые сады в далеком Бдынске, провинциальном флагмане отечественной оборонной промышленности, откуда слишком редко, но все-таки возвращался его отец. Слышен был и скрип башмаков в чужом и пустынном подъезде. Хотя скрипели башмаки не в Бдынске, а там где-то, неподалеку от памятника Депутату Балтики. Этот каменный Депутат выглядел особенно привлекательно в дождливое время суток. На Ф.М.Достоевского был похож.
Знакомый образ
В начале ноября дожди в снега превратились, деревья на скверах тихо побелели, памятники о чем-то задумались. Выглянешь в окно и сразу сообразишь: опять зима в Москве!
Бывший полковник, получив еще несколько официальных бумаг, стал побольше курить, почаще скрипеть дверью и погромче топать ногами на пороге. Над раскаленной спиралью электрической плитки подержав большие замерзшие руки, он клал фуражку на стол, и видел я, как на козырьке появляются капли – вроде потел козырек. Он говорил, что еще одна «архиважная» бумага из Управления пришла, темпы размётки пора ускорять. – «Зачем?» – задавал я вопрос. И слышал совсем неармейский ответ: - «Вы, дурак, Армяков. Молодой и сопливый дурак. Даром, что свое образование продолжать собрались. Ну, кто такие вещи у начальства спрашивает? Это ведь надо – зачем! Яйцо у курицы спросило. А вот затем! Затем, чтобы к декабрьским морозам работы завершить. А то, если к декабрьским морозам работ не завершить, приедет представительная комиссия в составе двух женщин в шубах и трех мужчин одутловатых в очках и всем нам таких надает, каких до сих пор не обнаруживалось на всем пространстве от площади имени Чкалова до Ярославского перегона». – «И, - добавлял он, - хер нам с вами тогда, товарищ Армяков, а не денежная премия. Не знаю, как вы, а я рассчитываю на нее. Я на нее всегда рассчитываю! Мне дочку, дуру такую, еще лет десять содержать, на факультет на философский в МГУ её определять, и бывшая жена опять денег просит». Мне было жаль опечаленного тяготами жизни человека. Так жаль, что я решил: буду теперь еще быстрее с астролябией бегать и реже разглядывать в объектив небо и заповедных зимних птиц. Обычных грачей городских, одним словом. И реже буду отдыхать на промасленных телогрейках. И устраивать себе всякие там перерывы на обед и на дискуссии по поводу моего грядущего вступления в ВЛКСМ тоже буду намного реже. А что касается моих романов на работе, так я их с различными белокурыми кадровичками заводить совершенно не буду. На кой это нужно еще и романы с ними заводить?
Словом, долгие были дни. Долгие и скучные. Что веселого в том, что три рубля с мелочью на дне обеденной тарелки? Я всё еще живого Бактюхова встречаю. Идет Петр Павлович Бактюхов по коридору с зеленым чайником, и чайник при каждом шаге скрипит в районе изогнутой ручки. Он мне говорит: «К тебе твой лопоухий приходил. Как его фамилия?.. А ладно, не суть важно. Вот если бы ты меня сигареткой угостил, а то опять жена моя в Свиблово уехала… К этому… как его… Вот! К Камикадзе». И музыка по моему ламповому радио не подавляла ощущения, что жаловаться ему теперь не на кого и поправить он ничего не может, как бы ни хотел. И не так уж и близко это Свиблово. Но еще дальше тот день, когда в ранних сумерках огонек волшебной кассы загорится.
А еще правда, что у меня был отрывной календарь на стене. Придя вечером домой, я отрывал листок календаря и сжигал его в железной пепельнице. Мне нравилось смотреть на то, как он горит, и длинные тени мечутся по стенам моей комнаты. К заветной росписи в бухгалтерской ведомости горение листка, увы, не приближало, но все равно нравилось.
Где вы теперь, скорбные дни метания длинных теней? Где вы теперь?
Другие фамилии
В моем календаре, кроме дат наступления полнолуния, были жирными буквами выделены даты жизни самых замечательных людей. Список великий! Его целиком привести у меня нет возможности, поэтому приведу людей самых ярких. Это: химик Менделеев, биолог Тимирязев, драматург Гольдони, педагог Макаренко, маршал Ворошилов, доярка Васильева, певец Белтадзе, физик Эйнштейн, кинорежиссер Пономарев, изобретатель русского радио Попов и другие. И требовалось сжечь в стеклянной пепельнице любые восемь листков из моего календаря, чтобы приблизить день финансового праздника. А вообще-то, эти дни тоже надо было прожить. Надо так надо. Кто спорит? Однако желательно, чтобы достойно, а не в нищете и не в бесправии. Но как добиться полного успеха проживания? Как? Никто не знает.
Впрочем, я человек всегда был застенчивый. И в смысле успешного проживания, и всего остального. И явная бравада то, что я про себя где-то выше что-то иное сказал. Я много терпел, терплю и сейчас. На экзаменах или где-то еще, где из окошка вид на тополя и трамвайные рельсы, и бледный начальник, чего-то нахватавшись, идет по коридору и пальто за собой волочит. Я не один раз был обманут, оболган. Я и гонениям подвергался, сверкам, встряскам, возлияниям, промискуитету, прострации, групповой любви. Дважды не проходил в дверь, однако люблю детей и собак. Я верю в будущее, но ненавижу редакции, политические партии, начальников, прачечные и обувные мастерские. Мне тяжело об этом говорить, хотя сказать надо: однажды выпил на какой-то шумной корпоративной вечеринке и пластиковый пакет с килограммом бескостной говядины в поезде метро забыл на сиденьи. А еще однажды премию за что-то получил. Это произошло в декабре, снежная буря гудела и билась в окно. И ни шута не видно: лишь мерцающие огоньки на перегоне. Полковник входит и говорит, что премию начали выдавать в овальном окошке строительной кассы. И я срываюсь и бегу, а после в нашей бухгалтерской ведомости расписываюсь. И улыбается мне светловолосая Наташа из отдела кадров, а я ей почему-то нет. А потом мы с полковником сидим у нас в каптерке. Стаканы и портвейн. Он без фуражки, но с орденами. И он рассказывает про войну, про свою контузию на Дальнем Востоке, про то, что у него с женой облом вышел в самом начале шестидесятых, перед хрущевской реформой. И я ему верю, и у него что-то спрашиваю, какую-то глупость, и он отвечает мне, кое-какие подробности выдает; а потом вдруг во весь рост встает, и дверь распахивается. Белый снег на пороге, ветер свистит. Луна мутная. Он с грустным молчанием исчезает в ночи, как человек почти вымышленный и почти никогда и нигде не существовавший, разве что в моих снах.
Или не только в моих?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Нескучный Сад
Иногда мне в транспортной давке вспоминался еще один «волшебный» сон. Будто эпизод из каких-то иных, быть может, не моих записок.
Вековые деревья, старые советские скульптуры… Они смотрелись в сумерках удивительно. И появлялось у меня такое ощущение, что они тоже когда-то были живыми людьми и героями чьих-то сумбурных воспоминаний.
Огромное колесо обозрения – чудо инженерной мысли с толстыми металлическими спицами. Оно сияло огнями на фоне темнеющего неба, и музыка играла где-то, и по кругу медленно двигались огни под эту музыку. Я до сих пор уверен, что такими и должны быть осенние нескучные городские сады и все обзорные колеса. И как-то влияли природа и садовая архитектура на то, что я одну маленькую подмосковную девушку часа два уговаривал, чтобы поехали ко мне мой трофейный радиоприемник слушать. И что-то рассказывал. Не сохранилось, что именно. За давностью лет ухитрился забыть. Возможно, про «Радио Люксембург» или про сам Люксембург. При этом я несколько раз повторил, что сам я лишь одного настоящего человека знаю, с которым дружу с десятилетнего возраста. Он на шестом этаже проживает. Он – студент-политолог, а не алкаш. Он знает всё про Америку и в то же время – скрупулезный советский акушер, понимающий толк в главном предмете изучения. Он, кроме того, еще при ее жизни был коротко знаком с великой Нормой Джин Бейкер. О чем вся наша улица знала и значительная часть ближайших переулков.
- Ни фига ж себе! - сказала мне девушка. - Прямо как у нас на площади перед сельмагом. Вот уж, Коль, никак не думала я! Вот уж не думала!
В автобусе, по пути на третий этаж я ей сказал:
- Есть у меня два билета на концерт Элвиса Аарона Пресли, короля рок-н-ролла. Он собирается приехать в нашу страну, чтобы дать всего один концерт на Большой арене стадиона имени Владимира Ильича Ленина. Мы его с одним моим другом пойдем встречать на вокзал. Там вся платформа будет засыпана лепестками роз и гиацинтов.
Она была маленького роста. Она не доставала до верхнего поручня в автобусе. Я крепко ее обхватил и поднял. Она обеими руками схватилась за поручень и повисла на нем. Она мне сверху сказала, что на вокзалах никаких Элвисов не встречают: там, в лучшем случае, можно встретить тетку с подмосковной станции Конобеево или какого-нибудь долговязого ненормального в рыжей шапке, похожей на птичье гнездо. Я промолчал насчет «ненормального в рыжей шапке». Я решил, что в другой раз я о нем ей обязательно что-нибудь расскажу, а потом её на последние деньги чем-нибудь сладким в городском саду обязательно угощу, а то и вместе из духового ружья свинцовыми пульками в жестяного зайца постреляем. А заодно пообещал, что, если ко мне приедем, то я в ее отношении не позволю себе ничего такого. Захочет, сама снимет, а не захочет, пусть так на простынку ложится, прямо в пальто.
- Нет, - сказала она, когда мы ко мне приехали и в комнату мою вошли, - в пальто пусть с тобой другие ложатся. Оно ведь у меня одно, а ты мне другого не подаришь.
Тут-то я ей и сказал, что, естественно, подарю. Я тебе, сказал я, не только новое пальто подарю. Я тебе подарю еще и пояс с чулками, большой маникюрный набор, а также шляпу с широкими зелеными полями. Только не сразу, а с премии с ближайшей. Во что бы то ни стало.
- И ты меня, конечно, извини, - закончил я свое обещание.
- За что извинять?
- За то, что подарки смогу вручить тебе не раньше декабря.
- А почему декабря?
- Раньше не получится.
- Почему не получится?
- Да ты понимаешь, работы кое-какие придется сперва завершить.
- Какие работы?
- Да по разметке.
- А что размечаете?
- Да площадку.
- Большую?
- Да, очень большую. Как вот от этого радиоприемника до вон той башни на горизонте.
- Вот это площадка!
- Ну а потом у нас в каптерке состоится банкет. Сразу как пурга утихнет, так и состоится...
- А меня пригласишь?
- Обязательно!
У меня был в моем загашнике в шкафу обычный портвейн стоимостью 1 руб. 47 коп., «партийного» происхождения. И дорога была мне как память заветная бутылка. Я ее от своего лучшего друга и товарища года два прятал. Заначка, стало быть. Тем не менее, будучи уверен, что до настоящего праздничного банкета так же далеко, как до трагического происшествия в небе над Средиземным морем, я, себя пересилив, к шкафу сходил, из шкафа достал и поставил бутылку на стол. Вскоре, сидя за столом, я под американскую музыку по радио умышленно промолчал насчет французского шампанского и обнаженных мулаток. А насчет оркестра и генералов сказал. И про соседей. Я сказал, что пусть соседей она не стесняется. Им дела нет до наших с ней отношений. Они – сами по себе, мы – сами по себе. У них – свои дела, у нас – свои. К тому же они в местах общего пользования бумажки разбрасывают, навагу в кухне жарят и крупные дамские панталоны на веревке сушат. А один вон взял и с помощью брючного ремня в четверг… Ну, то есть… выстрелил себе в голову… Из привозного нагана… черт знает где взял. Все мозги себе вышиб. Но к нам с тобой и вышибание мозгов не относится.
- А что же относится?
- А то, что не стану я требовать от тебя, чтобы ты всё с себя сняла и всё мне показала. Весь свой «цветок любви». Мы и в одежде можем на диване на бугристом у меня полежать и музыку послушать; стихи в темноте почитаем, известный романс попоем: «Утром нас никто не встретит, мы простимся на мосту...»
И в ночной Москве мы с ней под музыку не простились. Мы посидели немножко, а после целоваться стали: я ее стал целовать, она меня. И я уговорил её пальто снять, а потом и всё остальное. И «всё остальное» она снимала, как в кино: из-за большого числа пуговиц на штанах и еще большего числа самих штанов, о существовании которых она до встречи со мной вряд ли подозревала.
Я забыл, как ее звали. Я помню, что фигура у нее была, как песочные часы. А вот как ее звали…
Ночью она вспотела и попросила, чтобы я в комнате окошко открыл. Я сказал, что оно уже заклеено бумагой на всю зиму, и я могу дверь открыть, чтобы душно не было, хотя не могу гарантировать, что в комнату не проникнет запах жареной рыбы из общей коммунальной кухни, и вся моя чистенькая простынка этим запахом провоняет, а ведь я только вчера из государственной прачечной простынку домой принес. Но все равно было нам с ней хорошо. Четыре раза за ночь! Четырехкратный оргазм, хотя и без особой романтики, которая, по мнению Александра Петровича, должна была иметь место в ту далекую осеннюю ночь. Он сказал, что это «лишь отдаленно что-то напоминает ему», а на самом деле «всё слишком обыденно», «всё слишком банально» и запах «букета Абхазии» имеет, и «белая медицинская ширма за всем этим мерещится». Не знаю, что он всем этим сказать хотел. Видимо, что-то необходимое.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Новые веяния
Далеко не всё в нашей жизни именно так и выглядело, как я пытаюсь изобразить в своих записках. Кое-что совсем так не выглядело. Москва вроде всё та же, многолюдная, и ширма на четвертом этаже вроде такая же белая и в том же кабинете районного Ильича Ивановича. А женщины совсем другие. И сейчас перед мысленным моим взором две утонченные учительницы младших классов. Они мне уважение привили к настоящей французской любви. А потом – две ещё более утонченные специалистки в области биомеханики, две златокудрые певицы, две медицинские сестры. И все они были не с осенней площади имени знаменитого советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова, хотя и с татуировками на левой груди. Были и другие дамы – шикарные, откуда-то из Подмосковья – из дымной торфяной Шатуры, по их словам, и каждая – в железнодорожной шинели, с алыми губами и виражами судьбы. Они тоже исповедовали, но не французские, а подмосковные оральные отношения в связи с их относительной бактериологической безопасностью и на разные голоса кричали, чтобы я Александру Петровичу помогал, а не стоял, как дурак, у стены с кепкой в руках. А потом не две их было, а одна. Она никаких отношений не исповедовала, кроме «нормальных человеческих». Она в Москву из какого-то тихого городка приехала, так и не сказав, из какого именно. Она лишь намекнула на яблоневые сады, баню, железнодорожный мост через реку, на то, что отчим восемь лет подряд ее домогался, ни одного дня не пропускал. А неподалеку от той комнаты, где отчим ее домогался, какая-то бронетанковая часть стояла, которая, слава Богу, ее не домогалась: командир запретил. Она по приезду в Москву сперва хотела в отеле «Метрополь» остановиться, однако у нее не получилось в отеле «Метрополь» остановиться, и она не без моей помощи у Александра Петровича в его комнате на пару ночей остановилась, так как сказала, что ей идти больше некуда, и он, чтобы оправдать ее ночлег, сказал матери, что это провинциальная аспирантка, которая при первой же возможности уедет в общежитие жить и вскоре, наверное, защитит диссертацию по теме «Категории материального и духовного в материалах ХХVIII съезда КПСС». А я домой ушел, и было пусто в нашем дворе, когда я по нему под городским светлеющим небом к себе на третий этаж шел. Так что можно сказать, что некоторые наши с ним женщины, скорее всего, до сих пор где-то есть. А многих нет. Давно нет. Об этом я сказать тоже должен. Этого не утаишь. Время-то все-таки шло, и другие веяния до нас доносились. Утром одно до нас донесётся, а вечером другое. И старый техникум я потом бросил, а в новый не поступил. Зачем это нужно? Я несколько лет слонялся без всякого дела, а после горнистом устроился в палаточный городок на берегу Истринского водохранилища. А еще через время я вохровцем служил на ТЭЦ 19 или 57, забыл, какой номер. Вспоминаю, что сутки требовались, чтобы всю ТЭЦ обойти по периметру. Работал я и специальным корреспондентом в ежедневной газете «Родiна», где коридор был заставлен сломанными стульями, а главный редактор был лысый, кривоногий, в клетчатых бриджах и с серьгой в правой ноздре. Он обязал своего личного шофера называть его «Ваше превосходительство!». Он напивался по четвергам и кулаком грозил кому-то из бокового окна легкового автомобиля марки «Линкольн-краузер», а по весне, в хорошую погоду, из духового ружья по птицам стрелял. В той же редакции я научился писать неправдоподобные материалы, вроде заметки «Утопленница с Красной Пресни», и несколько раз видел очень полного человека с фотоаппаратом, который прятался в шкафу. Затем еще время прошло, и я действительно на работу в тихое учреждение устроился. И хотя там не было никакого вида на старые тополя и трамвайные рельсы, зато у начальника были пальто, которое он волочил по полу, и темноволосая поджарая секретарша. С ней у меня был короткий роман, поскольку её, по странному совпадению, тоже все звали Голубятникова, но была она близорука и круглые очки носила, а прежняя моя белокурая и приземистая любовь из отдела кадров видела хорошо и круглых очков не носила, не знаю, как теперь. Так что я, признаться, приврал бы, сказав, что ничего этого не было. Кроме, безусловно, тех ситуаций, когда и в самом деле ничего не было. Ни у нас с Александром Петровичем, ни у многих из тех, кого я встречал на улицах и в переулках. Ни женщин любимых, ни денег, ни выпить, ни покурить. Один орущий репродуктор на здании районного диспансера. Но как-то жили люди, чему-то радовались, огорчались и верили в то, чего не могло быть, но всем ужасно хотелось, чтобы было. И вот, бывало, предавшись «всеобщему оптимизму», выйдешь в светлый общенародный праздник на улицу во всем свежем и выглаженном, спляшешь с кем-нибудь на тротуаре, а после к Саше на шестой или ко мне – на третий. А жажда новых романов, чтобы навсегда влюбиться, все равно была. Жажда неловких и странных приключений в «Отеле разбитых сердец». Это я точно могу сказать. Что-то нас двигало к такого рода приключениям. Закон жизни. В духовном плане. Правда, Александр Петрович? Ты еще слышишь песни по радио?.. Мы, впрочем, из своего «праздничного состояния» не выходили почти никогда, хотя не было у нас ни амфетаминовой зависимости, ни пирамидальных транквилизаторов последнего поколения, ни горячего желания на такую зависимость подсесть. У нас был самый обычный белый портвейн с парящим журавлем на этикетке и кое-что покурить из табачных изделий фабрики «Ява». Мы явскую «Яву» больше любили шабить, чем дукатский «Дукат». Ну, и прозрачная спиртовая водка, конечно, тоже была. Куда же нам без нее... А из закуски – мелкие советские шпроты в банке и мои пельмени в пачке, которые я с лавровым листом и горошинами черного перца варил на газу в хозторговской кастрюле… А на самом пике торжества заокеанский брюнет в золотом пиджаке, замшевых туфлях и с трехдолларовой гитарой появлялся в проеме двери, и Александр Петрович шел навстречу ему, повторяя: «Ах, как я восхищен!» И казался нам этот праздник вечным… К тому же еще и ламповый приёмник, который был и у меня и у него в комнате, поэтому не слышать песен он не мог. Приёмник в такт исполняемой музыки подмигивал своим стеклянным зеленым глазом. И были в той же комнате на шестом этаже полинялые шторы на кольцах. Но шторы никому не подмигивали. Они шевелились на деревянных кольцах. За шторами – красивая мама темноволосая, с гвоздикой в волосах. Она на механической пишущей машинке печатала. На «Ундервуде», по-моему, хотя и другая механическая машинка могла быть. Почти наверняка. Так что и это была незабываемая музыка. Она слышна до сих пор… А коридор в их квартире плохо освещался. Не знаю, почему. Я таких коридоров нигде больше не видел и думаю, что не увижу никогда. Идешь по нему и идешь, идешь и идешь, а он не кончается. Там еще сундук стоял гражданский. А на правой стене, если решительно встать спиной к Спасским воротам, а лицом к Трубной площади, можно было увидеть железный велосипед без педалей. И он мне рассказывал, что по этому коридору его родной дедушка Витя однажды куда-то ушел, а назад не вернулся. И не в том дело, что возвращаться не захотел, а в том, что двое одутловатых и во всем кожаном за ним пришли, а один, не такой уж одутловатый и в очках, на лестнице стоял, а под дождем – авто темное... А после стало известно, что Витя, дедушка Саши, никакой не Витя и вовсе не дедушка, а скандинавский шпион, похожий на люксембургского, и на тайную разведку саамистов работал. Думаю, что то был поклеп на Витю, на дедушку Саши. С целью дискредитации всей их семьи, куда он так и не вернулся… А коридоров подобной длины я, повторяю, нигде больше не видел. Я вообще не очень понимаю, зачем они нужны со всей их загадочностью. Ведь только в воображении могут вдруг обнаружиться различные особенности. Или странности. Ну, там странные особенности «архитектуры разбитого сердца» или внутреннего устройства отдельно взятого человека. И в числе этих особенностей – то, что в конце того коридора был всё-таки бледный розовый свет, который не был виден мне раньше. Словно там, неподвластное никакому влиянию, но в силу неотвратимости судьбы находилось То Самое Будущее, о котором мы с Александром Петровичем иногда говорили в минуты полного откровения лет за двадцать пять до катастрофы над Средиземным морем… А что до лампочки над подъездом, то была и она – свечей на 25-40. Был и кинотеатр на другой стороне площади. А несколько подальше – бронзовый памятник Депутату Балтики, который когда-то был памятником Ф.М.Достоевскому. Наверное, из-за этого он лучше в дождь смотрелся, чем в ясную погоду. И два окна на шестом этаже. Он, давний и начитанный товарищ, опять лежал на диване в ожидании общих праздников, чтобы при их наступлении выйти в свежем прикиде на украшенную гирляндами и транспарантами улицу. Он имел обыкновение вести себя в соответствии с расположением звезд на небе, а то и праздничных лампочек на Центральном телеграфе. Ну, иногда при грохоте самодвижущейся гусеничной артиллерии на портреты орал. Какая разница? И всякий раз, возможно, я приходил к нему и отвлекал его от всех его «соответствий». От пребывания в кухне в «позе часового», от мысленного созерцания будущего. От той внутренней и тяжкой работы, благодаря которой он переносился то на Большой Каменный мост, то в собственное детство, то в 2000…-й год, словно герой центровой, почти космической Одиссеи. Иной раз деревянная тренога оптического прибора сильно терла плечо, и я вбегал к нему в своих московских кожаных ботинках, которые давно не ношу, и ставил прибор у стены в его комнате. Но совершенно не я заставлял его вскакивать. Не я заставлял его сомневаться, ходить на вокзал в надежде встретить кого-нибудь из приезжих королей американского ритм энд блюза, а после кричать в потолок о том, что всюду обман, ложь, чушь и ничего не понятно. И уж точно, что совершенно не я всем своим видом человека в матерчатой кепке провоцировал его. Наверное, есть в жизни другие, не менее провокационные мастера.
Новые подробности
Однажды я пришел к нему без предварительного звонка. Случилось это в том же году, о котором речь. Осень еще не кончилась. До всенародных праздников – несколько дней. Столько же и до восхода круглой и полной луны.
Я на крючок повесил кепку, сел на стул и, закурив «Яву» с коротким коричневым фильтром и откупорив то, что принес в боковом кармане, стал рассказывать разные вещи, в которых, по-моему, отражались, словно в каплях дождя на стекле, события нашей жизни. Помню, что в арочных окнах мерцали первые уличные огоньки, и мне показалось, что где-то живёт еще один человек, который пока ещё не очень много знает, но хочет что-то узнать, что-то понять и в чем-то разобраться.
И вот я в перерывах между гранеными почти всё ему и рассказал. Всё то, о чем, быть может, не рассказывал раньше. Раньше я был молчалив, как дверь. А теперь, наверное, поднаторел в практике жизни, стал кое-что понимать, во что-то вглядываться, а потому и перестал быть молчаливым, как дверь. Язык у меня развязался, и я особенно поднажал сперва на внешнюю политику Советского Союза, а затем на внутреннюю. А после я на политику перестал напирать и со всей горячностью молодости напёр на рассказ про будущую стройку и возникавшие там подробности. Я ему и про револьверную стрельбу рассказал, и про двоих наших плотников, Смирнова с Кузякиным, и про пожухлую траву, и про железнодорожную катастрофу на Ярославском перегоне (ее, конечно же, не было), и про свой очередной роман с кадровичкой.
Что было у нас из еды? Как город зажегся вечерними огнями?
Вскоре я подробно рассказал Александру Петровичу о том, как кто-то из «таинственных военных» несколько раз вбегал в помещение с улицы, и, не сорвав фуражки с головы, что-то кричал о будущих премиальных и о каком-то летающем японце в шлеме. Сообщил я и о прочих моих впечатлениях. Про плоскую, как поднос в угловой шашлычной, Луну, а также про то, что строго к декабрю всю разметку надо кончить. «А то комиссия в полном составе приедет и всем таких пи…дюлей надаёт!». Конечно, я не смог удержаться, чтобы к этому не прибавить кой-чего «кинематографического». Гладких и обнаженных мулаток с белыми как снег зубами, сводного оркестра ПВО и ста тридцати ящиков сухого французского шампанского, которого могло бы, впрочем, не хватить на весь долгожданный период торжественной сдачи объекта в строй.
Реакция товарища
Тыквин, пока я ему обо всём рассказывал, лежал с лицом вытянутым, в пиджаке, в носках и руки на груди сложил – почти как во сне.
Быть может, что-то в моем рассказе совпадало с его собственными представлениями о разных вещах и явлениях, а что-то не совпадало. Думаю, что физические характеристики совпадали, а вот духовные, наверное, не слишком. По крайней мере, выслушав меня, он мне сказал, что у нас в государстве такого, с одной стороны, быть не может, а с другой, может и быть. То есть когда-нибудь наверняка будет: мы люди такие. Я могу, сказал, тебе даже кое-какие подтверждающие выдержки из правительственных постановлений привести. «Ты этого хочешь?» А потом сказал, что он их может и не приводить. «Я лучше тебе пару-тройку рецептов из "Книги о вкусной и здоровой пище" приведу, а также эпиграф из Сталина».
- Ты нашего бессмертного генералиссимуса еще помнишь? – спросил он с дивана.
- Кто же генералиссимусов не помнит!
- Вот и ладушки. Не надо Папу забывать и Всенародного отца. Хотя ни ты, ни я не можем помнить его.
- Почему?
- Мелкие еще были. На горшок не умели проситься.
Заметив, что когда-нибудь наступит и такое время, когда нашему разноликому обществу надоест вспоминать Сталина и сталинский период развития социализма, он принялся вставать с диванной потертой обивки. - «Эх-хе-хе, - говорил он, вставая. - Опять ты меня, Армяков, ноги с дивана спускать заставляешь. Лежал человек себе и лежал. Может, сны какие видел эротические. Может, Америкой грезил какой или же Люксембургом. Чего ты, в самом деле, в комнату сюда припёрся? Чего ты тихо не живешь себе на третьем этаже?».
Встав на ноги, он некоторое время, заложив руки за спину, ходил по комнате; затем к окну подошел и, широко раздвинув обеими руками шторы, принялся что-то высматривать в небе и расположенном под небом городе.
Не было еще снега на крышах. От этого они казались еще холодней.
Поглядев в окно, он сказал: - «Нет, ты видал? Ты видал? Птички осенние в небе над городом летают. Значит, навеки связаны дикая природа и наша культурная и общественная жизнь». Не договорив до конца еще какого-то слова, он вышел в кухню и стал оттуда кричать:
- Ты знаешь, всякое бывает!
- А Дом? - кричал я. - Что это будет за Дом, ты мне можешь сказать?
- Пока еще не могу, но начинаю догадываться.
- Ну хоть склад-то с хрустальной люстрой на потолке будет?
- Обязательно.
- А подвесной зимний сад?
Он показался в дверях. Он, кстати сказать, виртуозно умел в дверях показываться в его «джазовом» пиджаке и с таким лицом, что – было мне видно – почти любой мой вопрос даже его в тупик поставить может.
Вот и в тот раз, когда я про сад обмолвился. Он вроде сначала не понял, не въехал вроде в проблему, поскольку не представлял, зачем и для чего сады подвешивать; потом сказал:
- А что? Вероятно, и сад. Подвесной и зимний.
- А что насчет бухгалтерии?
- Вот! Бухгалтерия в первую голову! Я, можно сказать, годами жду, когда вы лучшую в мире бухгалтерию возведете. А вот строить помещение для радиорадара не надо. Это нужно сразу исключить из проекта. Нефига дополнительные радиорадары устанавливать. Никто бомбить нас с воздуха не собирается. Мы для этого никому не нужны.
- Но ты же сам мне говорил про бронетехнику?
- А ты мне про камикадзе. Скажешь, не говорил?
Изменение погоды
Снег вскоре выпал. Он трое суток подряд выпадал. Сначала медленно и бесшумно, потом еще медленней и бесшумней. И дворники по асфальту скрести у нас во дворе начинали часов в пять утра по Москве. Они по асфальту скребли лопатами совковыми и кричали тяжелыми, грубыми голосами, и тревожные ощущения были у меня от их голосов. Октябрь почти кончился.
Несколько раз я ходил к нашему районному доктору, чтобы взять у него бюллетень в связи с переутомлением, простудой и возникшими неполадками в вестибулярном аппарате. Опять мне приходилось с грустью унижаться за белой санитарной ширмой, и проникновенный, милый, но строгий медицинский Ильич мне говорил, что на площади имени Чкалова можно любую заразу подцепить, а не только ту, которую я уже подцепил. Моя благодарность доктору выражалась двумя бутылками армянского коньяка по 4.12, которые непостижимо быстро превращались в три бутылки водки - по 3.62.
Во время болезни я кому-то звонил из девушек с темным треугольником внизу живота и проживавших в ближайшем Подмосковье. Ни до одной из них я не дозванивался и в комнате на диване пытался читать грубо иллюстрированный учебник по материальным основам отечественной картографии. Ничего в основах не понял и на это занятие плюнул.
После некоторого перерыва мне стало грустно и скучно, и я опять взял за правило мечтать о наступлении главного всенародного праздника – Дня Получки. А также пробовал определить по отрывному настенному календарю время начала очередного полнолуния.
Опять оно наступило в указанные сроки. Что и подвигло меня к тому, чтобы пересечь двор и, поднявшись по лестнице, позвонить в обитую коленкором старую дверь. Тем более что накануне ночью я слушал свой радиоприёмник. Мерцал во тьме его зеленый глаз, предметы в комнате не казались столь же пошлыми, как днем, и сквозь завывания ветра в мировом эфире мне представлялось, что доносится до меня нечто давнее из сказанного по телефону: «Время светского визита – великое, незабываемое время суток!». Так что смело могу теперь вспомнить и то, насколько остро захотелось мне увидеть моего друга детства и товарища юности, с какой силой возжелал я выдать ему все остальные подробности громадного пустыря и одинокой каптерки. Частью, безусловно, фантастические, а частью такие, какие по-прежнему случались у нас на готовой вот-вот развернуться обширной стройке. Видимо, что-то я в прежних моих рассказах опрометчиво упустил. А теперь решил наверстать. «Дай-ка, – подумал я, – хоть теперь верняком наверстаю!».
Дом мечты
Из упущенного я прежде всего намеревался никаких кадровичек больше не выделять. Про них всё уже было сказано, почти всё выяснено, и мне нечего было добавить ни к одной кадровичке. Тем более что Наталья Николаевна Голубятникова, так и не подписав никакого списка, от нас уволилась, и я от кого-то из наших мужиков слышал, что она работает теперь в высоком доме, откуда из окна открывается приличный вид на Обводной канал, вода которого кажется глубокой и темной на закате дня.
Вместе с тем я был уверен, что во что бы то ни стало следует постараться выделить еще что-нибудь. И тут, как об одном из вариантов, я подумал, что наверняка стоит еще раз прямо и четко напомнить товарищу про носки, какие положено на трубе сушить, про стрельбу по бутылкам и про гудки на ж.д. станции, какие должны раздаваться. Столь же решительно сообщил я ему и про того никому неизвестного парня, который однажды со стройки сбежал, а черные тяжелые ботинки с высунутыми языками оставил. Случай был по всем параметрам удивительный. Однако самое удивительное было то, что этот парнишка, когда его пробили по ЦАБу, оказался знаменитым рецидивистом, который сбежал со всей нашей строительной кассой: 318 руб. 47 коп. Он долго и гулко хохотал в ночи. Две недели по звуку искали его по всей округе и в ее окрестностях, но так и не нашли.
Рассказав товарищу про исчезнувшего рецидивиста, я решил, что теперь в мою задачу входит как можно более точно постараться проинформировать друга о том, какие, согласно проекту, будут комнаты на этажах, санузлы, окна, вешалки, лифты, швейцары, электроплиты, ванные комнаты, ящики для обуви, подставки для цветов, щеколды, косяки и всё такое прочее.
Постепенно еще кое-какие подробности стали проясняться, о которых сам я всю осень не подозревал, но которые, по всей видимости, витали в воздухе вперемешку с дождём и снегом, оседавшем на одежде и на пожухлой листве. Например, в так называемых технических этажах запланировано сосредоточить лифтовое и телефонное хозяйство, водопровод и канализацию, систему отопления и т.д. На скоростном бесшумном лифте на 248-й этаж можно будет подняться за 43 секунды, т.е. раза в три быстрее, чем мне взбежать к Тыквину на шестой. Ответвления гигантских пылесосов проникнут в каждую комнату, в каждый коридор, в каждый уголок, что приведет не только к круглосуточному очищению воздуха, но и к его обмену: спертый обменяют на природный.
И стало вскоре вырисовываться поразительно своеобразное, единственное в своем роде здание. И оно мне нравилось. Очень нравилось! Я руки потирал и даже собирался Сергея Львовича тоже порадовать, чтобы не сильно грустил и не расстраивался на ветру бывший военный человек в разводе. Ибо мало того, что в высокой части главного корпуса разместятся штабы, факультеты, актовые залы, кафедры и книгохранилища, так еще в низкой части того же корпуса разместятся музеи, клубы, кафе, гимнастические залы, бассейны. А в боковых корпусах, плотно примыкающих к высотной части, что-то тоже разместится. В частности, квартиры профессоров, которым ордера будут выдавать в дружеской непринужденной обстановке. Получат и все другие, кто ни захочет, каждый по своей комнате: не менее восьми квадратных метров на одного человека и не менее ста двадцати на другого. При этом для третьего пределы полноправного проживания могут быть ничем не ограничены. А кто, упаси бог, заболеет, тот лечиться будет в поликлинике: грязевые ванны, рентген, ЛОР, глазник, венерология, УВЧ. Все очереди в регистратуру упразднят, но две оставят: на железные медвесы и к деревянному ростомеру. А кто всерьёз раззадорится какую-либо толстую книгу написать, тот издаст её сразу, и будет она напечатана в местной типографии на лучшем шведском оборудовании, о поставке которого позаботятся очень неглупые люди из общей административно-хозяйственной части. Для каждых двух комнат начнет свою непрерывную работу санитарный узел с душевой кабиной. Каждый такой узел работать будет круглосуточно, без всякого перерыва, и никакая политическая обстановка, никой катаклизм не сможет остановить течение сливной воды в связи с официальным окончанием работы желудочно-кишечного тракта. И создадут для Кузякина со Смирновым их личные мастерские. И смогут они там замандёхивать всё, что сами захотят, то есть на их личное усмотрение или по заказам граждан. По выходным же дням на пруду – белые лебеди, а за деревьями – самое круглое в мире колесо обозрения, и музыка, естественно, танго и рок на всю катушку. Водка – по три рубля за один гепталитр и не менее ста двадцати сортов. А ежели кто захочет, тот сможет с девушкой на скоростном глиссере прокатиться или на лодке с вёслами уплыть далеко-далеко, в сторону огромного теплого моря: одного из пяти. И там загореть.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Московские огни
После каждой подробности (яркой и технической) Александр Петрович предлагал мне оторвать задницу от стула и шустро пробежаться по вечерним улицам города в сторону нашего душного центрового «У лётчиков». (Незабвенны его огромные запотевшие снизу витрины, и размытые в них московские огни!) Он сообщал, что я, если сам захочу, могу пробежаться туда и без кепки, а он обязан остаться, чтобы поразмышлять над сказанным мной. «Я уже кое-какие отсветы впереди вижу, однако не могу пока еще понять, какие они, кто там и чем светит».
Примерно через полчаса я возвращался. Я слышал сухой и дробный стук пишущей машинки за шторой и видел Александра Петровича. Он довольно-таки торжественно сидел за столом, сложив руки на груди и глядя куда-то в даль. Часики-котлы блестели на его левом запястье, кривые фиолетовые огурцы на его галстуке жизнеутверждающе вписывались в обстановку.
Полагаю, что что-то и в самом деле мерещилось ему. Быть может, то, что и теперь не до конца выяснено и обозначено. То, что и сейчас вызывает массу споров и нареканий. Что-нибудь вроде воздушного коридора между Москвой и Гибралтаром, возможностей построения справедливого во всех отношениях общества на отдельно взятой территории, поросшей желтой травой, или средней температуры января на южном побережье. Или же что-нибудь посущественней, вроде нашумевшей несколько лет назад авиакатастрофы над Средиземным морем, в которую Александр Петрович, скорее всего, не попал, так и не вылетев по заданию одной известной фирмы в сторону офшорной зоны в Гибралтаре. То есть, конечно, попасть-то попал, но, к счастью, не он.
Я ставил стеклянную бутылку на стол. Она была еще холодной с улицы, твердо обещая вскоре потеплеть. Рядом с ней я клал шпроты в плоской банке, высыпал на скатерть яблоки и говорил: - «Где твой сверкающий консервный нож?». Он вытаскивал его из бокового кармана со словами, имевшими оттенок гордости: - «Вот! Вчера в промозглой подворотне фарцанул!». Потом мы ели, пили, опять ели, опять пили… А потом, вдруг и внезапно повернув к себе этикетку с парящим журавлем и уставившись на нее, он у меня спрашивал:
- А ты ухо не пробовал к земле приложить?
- Это еще для чего?
- А чтобы гул послушать подземных коммуникаций.
И, чтобы мне продемонстрировать, он сам при мне из-за стола начинал выходить и, почти уже выйдя совсем, говорил:
- Смотри сюда, Армяков. Вот так это правильно делается.
Выйдя из-за стола окончательно, он опускался на колени и, прижавшись правой стороной лица к паркетному полу, показывал, как надо с высоко поднятым задом и низко опущенными плечами правильно слушать то, что происходит в неведомых глубинах. Казалось, что за каких-нибудь полчаса, пока меня не было, пока я с мужиками в духоте гастронома препирался с той целью, чтобы они признали во мне меня, то есть подручного геодезиста, он решительно повзрослел и теперь видит и слышит то, чего не мог слышать и видеть я при всем моем горячем желании. С учетом высоко поднятого зада, прогнутой спины и правой стороны лица, прижатой Александром Петровичем Тыквиным к паркетному полу в его незабываемой комнате.
Трое суток он отстаивал до зари свою точку зрения в отношении практически всего. Несколько раз переходил в непримиримую оппозицию ко мне. Он напирал на то, что я – полный профан в области унижения одной человеческой личности в процессе формирования базы счастья для всех остальных, а также дикий и пошлый профан в области распознавания гула подземных коммуникаций и других подземных работ.
Отстаивал и я свою точку зрения. Я, в частности, говорил, что нет никаких подземных работ и что это является плодом его неуемной фантазии, а он говорил, что никаким плодом это не является, поскольку всё это – самая натуральная реальность, а не что-нибудь постороннее.
Уже не было у нас с ним ничего из горячего покушать. Я несколько раз приносил и ставил на стол заветный портвейн из загашника в моем шкафу, а он всё упорней переходил в оппозицию ко мне. В конце концов он стал напирать на злополучный Меморандум Молотова-Риббентропа и на ту якобы двоюродную тетку, какая присутствовала в Кремле при подписании. При этом он то и дело вскакивал со стула, простирал руки к потолку и на центральную прессу ссылался. «При чем тут всё это?» - так же вскочив со стула, кричал я. А он кричал: «Это тут ни при чем! Ни при чем! Но это зато существует!».
Всё это «просуществовало» еще несколько времени. Затем в его доводах откуда-то взялись архаичные МТС, целинные земли, ХХ съезд КПСС, высадившийся на полустанке мастер по наладке паровых котлов, оплеванный дворник, Государственный Планетарий, мой сосед Бактюхов с чайником, моющаяся в общей бане киноактриса Мэрилин Монро, порнографическая выставка в Копенгагене и первая запущенная в космос дворовая собака. - «А ты помнишь наши успехи! А ты помнишь наших женщин! А ты помнишь, с какой решимостью рисковали мы заболеть на любовной почве!» – опять кричал мой товарищ. И я кричал почти то же самое, вспоминая, заявленных им, «гермафродитов», и тогда он принимался ругать меня «козлом» почти «за всё», и я его за «это всё» почти ненавидел.
Забрезжил поздний столичный рассвет, когда внезапно выяснилось, что не он, а я вчерашнюю «Правду» никогда не читал. Надо ж такое придумать! Я, то есть, не политинформатор. Я, оказывается, никогда не стоял в нашей каптёрке с газетой. Я – черт меня знает кто такой. Подручный и больше никто. А сам-то он кто?
В чем-то он со мной под утро согласился, но тут же опровергнул, сказав:
- Езжай-ка ты, Армяков, к себе на объект. Потом доспорим.
И, сняв с крючка свою шляпу (шапку?), куда-то ушел, хлопнув дверью и вызвав тем самым уже известную реакцию со стороны дяди Пети Сандальева.
Дня три прошло. Прошел бы и четвертый, но тут под звуки тихих заключительных фанфар похоронили на бескрайнем и гулком Хованском моего плоского, как дверь, соседа Бактюхова: он накануне повесился у себя в комнате, оставив записку, в которой был одно слово: «Довели!» Я был на поминках. Я видел осиротевший чайник, стоявший на стуле, а за длинным столом незнакомых мне людей, человек тридцать, не знавших несчастного при жизни, но пришедших обильно и вкусно его помянуть. И жена его тоже была. Из-под темной вуали сверкали глаза любвеобильной и загадочной женщины. На подоконнике – стаканчик гранёный, традиционно накрытый кусочком хлебушка черного. Дядя Петя Сандальев в фиолетовой майке. Супруга его с полотенцем на голове.
Тыквину я позвонил вскоре после поминок. Он, чтобы я еще сильнее не расстроился и не пал духом, что-то мне сказал про какого-то Го Мо Жо и подробно рассказал о массовой гибели воробьёв в Китае и грядущем взлете КНР в области создания танков и электромеханических детских игрушек. Затем он у меня спросил, почему я до сих пор ничего не принёс ему с гробового торжества. «Мы же еще в конце октября с тобой договорились помянуть погибшего». Я сослался на то, что что-нибудь принесу ему с каких-нибудь других поминок, и он мне, похоже, поверил, пообещав по своим каналам выяснить, какой же все-таки будет Дом, и можно ли будет нам с ним в нем поселиться. Хотя бы комнату снять, а то и целиком весь этаж. Но «не для веселой пьянки, вкусной закуски и светлого нашего блядства, а под строгий служебный офис».
- Под чего?
- Это такой термин. Лет через двадцать в обиход войдет.
Однако и тут он ухитрился напустить кое-какого тумана, сообщив мне, что, по его мнению, в здании будет не меньше девятисот девяносто девяти этажей. Без горельефов и шпилей.
- А почему не ровно тысяча?
- Один этаж для отдаленных потомков. Сами достроят.
Яблоки и портвейн
Источник всех сомнений – не мои воспоминания. Источник главный и очевидный – портвейн. Один из важнейших напитков того времени, кайфовое сопровождение моих записок. Портвейн! Портвейн! Портвейн! Он-то и виноват. Сладкий на вкус, прекрасно известный всему поддающему человечеству. Тот, что с парящим журавлем на этикетке. И пыльные бутылки под диваном с головой выдают привязанности наши. Я бы тут даже так сказал: никогда не пейте портвейн в юности с бывшими партийными студентами. Так и норовят выпить и закусить за ваш счет.
Вы и водку с ними тоже никогда не пейте – вкусную, прозрачную водку, освещённую магическим светом 256 электрических лампочек торгового учреждения «У лётчиков». Либо что-то еще. Блекло-желтое пиво, а еще хуже – ликер. Он ведь такой сладкий. Он ведь такой зеленый. Он ведь такой тягучий, что и голова к утру становится тягучей, и думать ни о чем не хочется, разве что о том, что совершенно не поддается какому-либо осмыслению. Вроде чьих-то вздохов на моем бугристом диване, квитанций Мосэнерго в моём почтовом ящике, духа терпкого ночного кальяна и наших бесед, звучавших и в советское время, и в несоветское, и, наверное, когда-то очень давно, словно за несколько тысячелетий до н.э.
А закуска была бедновата. Пили очень много и пили очень хорошо, а закусывали очень мало и очень плохо. Забыть невозможно мясные пельмени, сваренные мною в кастрюле, с черными горошинами перца и плоскими лавровыми листьями. Шпроты в жестяной плоской банке, советские, но мелкие. А яблоки – дрянь. Зеленые и безвкусные, как прошлогодняя трава. А в результате, мелкие прыщи на лбу и на щеках; проблемы с эротикой, с работой, с учебой, с памятью, еще с чем-то. Были и такие серьезнейшие последствия, как, например, чья-то шляпа на крючке. Жестоко накурено; товарищ, спящий в ботинках на диване. Какой же мог быть иной результат?
Впрочем, всякий пересмотр какого-либо результата не был еще в той моде, в какой он теперь. Это мне мой давний знакомый подтвердил, хозяин японского зонта, блестящий специалист с пузиком и в пиджачной паре. Он, кстати, по ложному обвинению восемь месяцев в Лефортово отсидел, но всё равно еще жив. А сардельки в натуральной оболочке он в той же бывшей «Диете» покупает и так же любит женщин с большой грудью, как в его далёкой молодости. Он по-прежнему в доме на набережной Обводного канала неплохой пост в Межправительственном учреждении занимает. Все три его дочки в полном порядке.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Оттепель
Опять тот давний вечер. Тени в углах, под столом, под диваном... И опять, как тогда, окно вечернее, и звезды редкие городские. Над нами люстра горит. Бутылка «молдавского» на столе, кое-что из закуски. По приемнику – старые блюзы: «Отель разбитых сердец», и разные другие.
В городе – оттепель. Из-за нее-то и капало на карниз.
- Ты про будущее нашей Родины что теперь думаешь? – спрашивает меня Александр Петрович.
- А мне чего надо про него думать? - спрашиваю я Александра Петровича.
- А вот то и надо, что крайне важная вещь.
- Да знаю, что важная, а думать все равно ничего не могу.
- А ты постарайся.
- Да ежедневно стараюсь, но сразу внутри что-то отказывает.
- Это у тебя мозжечок барахлит. Он, если бы у тебя не барахлил, то ты бы не только про настоящее, но и про будущее нашей Родины с утра до ночи думал и мужикам бы на стройке про него рассказывал.
- А разве не заподло?
- Как же заподло? Что за мужик, которому про будущее заподло?
- Хоть про ближнее, хоть про отдаленное?
- Да хоть про какое.
Тут я задумываюсь, и на фоне вечернего окна мерещатся мне известные теперь картинки этого самого будущего. Не все – частично.
Картинки искажаются, гаснут, куда-то пропадают. Я говорю:
- Не, им лучше все-таки про баб. Про них они... Ну, на мой взгляд, больше им про них по нутру. Про пожрать и про баб.
- Ты думаешь?
- Чтоб мне так жить.
- Хм... Тогда пора звонить, коли речь-то зашла.
Тут он вставал из-за стола, и твердые ножки отодвигаемого стула неприятно скребли по паркету. Встав, он одергивал пиджак, поправлял галстук, приглаживал пробор, смотрел на часы. Затем произносил в свойственной ему манере:
- Мда-с. Времечко-то поджимает. До конца молодости не так уж и долго.
И, торжественно переставляя ноги, шел куда-то звонить.
Похожие образы
Часа два его не было в комнате. Я скучал и томился. Я, пользуясь паузой, раза три вставал со стула и, сделав несколько дыхательных упражнений, ходил по старому паркету и, словно впервые, разглядывал всё, что ни попадалось мне в комнате на глаза.
Вот выключатель на правой стене. Вот электрические провода витые связывают лапочки в люстре с местной энергетической подстанцией. Вот стул с черной кожаной спинкой. На стуле – словарь в коричневом переплёте, с закладкой на странице с необъяснимым иностранным словом. Он называется так: «Словарь иностранных слов в ледерине». А закладка на странице со словом «эпифеномен». Черт знает, что это такое в смысле побочных явлений. А вот эмчеэзовский будильник в зеленом металлическом корпусе отечественного производства. А вот и фотографический портрет прямого, но давнего предка Александра Петровича в форме путейского инженера, с таким же, как у него, крупным выразительным носом и - батюшки мои! - пробор такой же набриолиненный. А вот на групповой фотографии люди, чем-то похожие на... Кузякина со Смирновым. (Не может быть!) А вот и солидный усатый мужчина с покатыми плечами, в фуражке без звезды, в парадном мундире бронетанковых войск. (Полковник?! Бывший бронетанковый?!! Нет, такого тем более быть не может!) А вот и проект под стеклом. Вроде тот самый. Грандиозное, до самых облаков здание с горельефами и шпилями. И грач на заборе. Уж он-то хоть может быть или тоже не может? Птица за что отвечает?
Два часа, пока он звонил, проходили в сомнениях и различных догадках. Но ничего не склеивалось, ничего не сходилось. А должно ли было всё склеиваться и сходиться? Не знаю. И это неправда, если кто думает, что всё должно сразу склеиться и сойтись.
Но исчезало всё в один миг. В тот самый, когда часа через два, будто вызванные его «вертушкой» из полумрака центра или окраины, в комнате появлялись совсем неожиданные люди. Не берусь утверждать, что это были выдающиеся представители наших с ним минувших дней, но всё же... Откуда только брались! Пожилая, грудастая и полнозвучная женщина-певица, известная тем, что, плавно и широко разводя полные руки, пела у окна: «Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Был и мужчина в длиннополом демисезонном пальто, почти такой же высокий и сутуловатый, как Александр Петрович, но который, в отличие от него, на всю Пушкинскую площадь хлопал в ладоши. Бывали и откуда-то знакомые мне нелепые по изяществу девочки с цветными воздушными шариками в маленьких детских руках с острыми лакированными ноготками. Поразительно хорошенькие небольшие девчонки с подстриженными челочками, веселенькие такие, с ловко подведенными глазками. Они приходили группами, сразу человек по десять; всюду сидели, стояли, курили, смеялись. Однако в силу так и не выясненных мною причин товарищ мой был с ними подчеркнуто строг. Он заглядывал им в глаза и, по очереди указывая на каждую пальцем, говорил: - «Мы вас, девочки, не ждали. Идите-ка все отсюда! Мы с Колей сидеть за вас в тюряге в Лефортовской не желаем». Они очень расстраивались. Им очень не хотелось уходить. Они грубо обзывались, пытаясь что-то «дяде доказать» в тех выражениях, какими теперь на улицах городов и населенных пунктов пользуются совсем другие девочки, тоже все милые и хорошенькие. Обнаружив, что доказать ничего не удается, они уходили, угрожающе похихикав на лестничной клетке и постучав грубо в дверь.
Он снова звонил. Тогда (соврать и тут я не имею права) приходили две дамы. Обе были низкорослые, плотные, широкоплечие, и обе родом из дымной торфяной Шатуры. Быть может, были они и не совсем дамы, судя по голосам и топоту ног, какой напомнил мне стук копыт небольших лошадей. Одна из них утверждала, что она вохровка с Центрального Телеграфа, а другая, еще более широкоплечая и в черной железнодорожной форме с блестящими металлическими пуговицами, говорила, что она служит диспетчером на Ярославском перегоне. И тут я подтверждаю то, что было кем-то где-то сказано раньше: ни одна из них не рубила ни в роке штатском, ни в блюзе американском. Зато в остальном они преуспели, навострившись рубить в халявной жратве, типа яблок и баночных шпрот, и всегда у нас портвейн пили, с молдавским журавлем на этикетке. А после во всей верхней рабочей одежде укладывались спать вдвоем на диване. У них сапоги были «типа чулок», модные в те годы. И вот они свои сапоги с ножек с толстеньких, друг дружке помогая, стащат, носки - тоже самое, а во всем остальном ложатся и спят, и в рассеянном лунном свете пуговицы на шинелях тускло сияют.
Тыквин был категорически против таких поворотов. Он «букетов Абхазии», их вида и запаха больше всего прочего боялся: лечиться, считал, слишком долго и противно. И как-то мало хотелось ему штаны за белой ширмой снимать. Да и кишечник мог отреагировать… А то еще за шкафом закончит прятаться. Тотчас шпротинку последнюю ловко вилкой подцепит, громко ее внутрь всосет, а после, сытый, но чем-то обескураженный, сидит напротив меня и спрашивает:
- Ты, Армяков, мне можешь сказать, что там такое в рассеянном лунном свете сияет?
А я ему:
- А это пуговицы на шинелях. Что же еще?
И он, помолчав, мне загадочно:
- Опять, значит, не зов. Не зов старинных переулков. Нет, Армяков, не то... Не то! Опять наше физическое над нашим духовным превалирует.
Мастер он всё-таки был на всякие выдумки и приколы.
Тонкий провидец
Было нам лет по десять. Он первый рассказал мне о сложностях жизни, о том, что все мы из воды вышли… Он не стал уточнять, из какого именно водоема, но заметил, что явно не из того, о котором подумал я. Далее он мне рассказал, что, кроме троллейбуса и хлеборезки, есть еще астролябия, прибор для наблюдения небесных светил. Он в этом смысле выступил тонким провидцем. Он первый предположил, что я вырасту и буду с оптическим прибором бегать по невероятной площадке, поросшей желтой травой, в двадцати километрах от дома. Я ему не поверил. Я ему сказал, что он меня обманывает. Я тогда еще не знал, кем стану. Я тогда думал, что могу стать кем угодно: фотолаборантом в Музее Революции СССР или специальным корреспондентом газеты «Родiна».
Что касается подросткового рукоблудия, то и о нем я бы мог повторить за ним несколько слов, но не повторю, поскольку рукоблудие – медицинский факт, и я, в отличие от районного Ильича Ивановича, не являюсь специалистом в области медицины. К тому же один мой знакомый майор милиции, который потом на пенсию вышел, тоже в подростковом возрасте посвятил себя рукоблудию, а после и не в подростковом возрасте посвятил, а когда уже стал зрелым капитаном.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Голоса будущего
На стуле, освещенный светом нового дня, лежал словарь с закладкой на той же странице. Штора от сквозняка не шевелилась, и стука пишущей машинки отчего-то не было слышно: был слышен запах папирос.
Я снял в комнате кепку и, прислонив астролябию к стене, спросил:
- Ты чего пишешь? Еще один реферат по разметочному коммунизму?
Он сказал:
- Что надо, то и пишу.
- А все-таки?
- Я пишу, - раздельно произнес он, - трактат о шумных голосах жизни и практике их применения. Название еще не придумал, но, по всей вероятности, это будет что-то вроде «Мир и моё представление».
- Ах, вот оно что! Ну и чего голоса?
И тогда он сказал, что «чего голоса, пока еще не знает, зато теперь точно знает, что примерно в середине ХХI века всем будет очень хорошо, ибо непременно победят самые добрые и проворные силы общественного оптимизма». И добавил, что грядущую победу он совсем не придумал. Он ее вычислил за несколько недель безвылазного сидения дома и тщательного обдумывания всего того, о чем я его почти всю осень старательно информировал.
- Ну-ну, - сказал я.
- Нет, Армяков, не «ну-ну», - строго сказал он. - Не надо нунукать. Вот ты разнунукался тут! Нет, Армяков! Это будет полная победа. Полная и окончательная.
- А подвесной зимний сад?
- Что?
- Подвесной зимний сад.
- Ах, сад… Будет и он… и он будет… Частично подвесной, а частично зимний… Дай только срок, дай только время разобраться. А там уж, как разберемся, как сами поймём, кто мы есть такие на самом деле, как силы наши человеческие и ум наш блистательный к жизни приложим, так всё и будет.
Он отвернулся от меня и китайской авторучкой с пипеткой для набора чернил увлеченно продолжил писать.
Постояв в молчании и помяв кепку в руках, я ушел от него и по дороге, пока через наш двор шел, думал о том, что отчего-то не верю ему. Настроение у меня испортилось, и я лег спать злой и трезвый.
Ночью я видел Тыквина во сне. При свете молодой луны он стоял у стены и, приложив ухо к ней, к чему-то прислушивался.
Утром, надев ботинки, я отправился в районную поликлинику. Ильич Иванович, по обыкновению, послал меня за белую ширму. Затем сказал:
- Что ж, и такое бывает.
И теперь, оставаясь один и размышляя о разных своих ощущения, я думаю, что зря Тыквину не поверил. Он все-таки был не фраерок какой замороченный, а бывший идеологический студент и дворовый прикольщик. Проверенный фантазер, самый что ни на есть настоящий. И вы, если что наоборот покажется, можете при себе оставить. Идея хорошая, но вы ее кому-нибудь подарите. Человек рад будет.
Приговор
Не могу сказать, в каком году ему первый срок дали. И, кстати, последний. Сразу за всё. За все его «разные штуки». За все приколы. И за праздничную ругань на портреты на фронтоне, и за девочек с воздушными шарами, и за безуспешную попытку взорвать радиоглушитель, расположенный на территории Польской Народной Республики, и, конечно, за грустные, длинные и подробные докладные, поданные на него на кафедру маленьким, въедливым, взъерошенным и крикливым профессором Дроцким. Кое-что существенное на него и в «компетентных органах» накопилось, но как в органах обо всем узнали, я не могу сказать. Не мама же донесла, не ветер навеял. Не Сергей же Львович отнес в органы подробное описание канделябра на пианино и розовой комбинации на спинке стула. Единственное, что более или менее достоверно, так лишь то, что несколько листков, напечатанных на пишущей машинке, принес на Лубянку какой-то одутловатый мужчина в фиолетовой майке без рукавов и на вопрос «Где взял?» ответил: «В сортире нашел, е… тебя в кочегарку!». И тут же отбыл на трамвае в неизвестном направлении.
Короче говоря, за весь «букет» хотели дать моему товарищу года три «химии» пожизненной. Однако ему повезло. Выслушав речь очень полного и поразительно красноречивого адвоката в пробковом шлеме, судья, высокая костистая женщина в оранжевом парике, сказала: - «Законом страны не предусмотрено, чтобы каждому такому Тыквину давать три года пожизненной химии».
Суд отправился на совещание, продолжавшееся около трех дней подряд.
На четвертый день зал торжественно встал, и в наступившей тишине был слышен многоликий город. И приглушенный гул за окном, и тишина в зале еще продолжались, и вся страна куда-то неслась, когда, не без положенного в подобных случаях отсутствия интонации, дали Тыквину три года и семь месяцев ежедневных посещений четвертого этажа нашего районного диспансера, последняя очередь которого была сдана в строй лишь в 2012-м году (вместе с шпилями и горельефами).
На пятый день без предварительного звонка пришли за ним трое: два «одутловатых санитара» в кожаных черных пальто и сияющих скандинавских ботинках и еще один, не слишком одутловатый. Оба «санитара» уверенно в комнату вошли, а третий – еще уверенней – в дверях остановился.
Последний выстрел
Он был приземистый, в золотых очках, с папиросой в зубах, в длинном пальто и ярко сиявших скандинавских ботинках. Лицо худое, бледное.
Отделившись от двери, он почти вплотную подошел к Тыквину. Молча постоял, глядя на него снизу вверх; затем поинтересовался:
- Тыквин?
- Да.
- Стало быть, тебя по суду в диспансер направляют?
- Куда?
- Ты глухой, что ли? Я спрашиваю: тебя на принудительное лечение направляют?
- Ну, меня, - произнес Александр Петрович.
- Тогда распишись, Тыквин.
- Где?
- Вот тут, тут и тут.
- Ага, сейчас, - сказал Александр Петрович. – Я сейчас распишусь. Так, так и так… Где же ручка моя?
- На тебе ручку.
Приземистый полез в карман за ручкой и вытащил ее оттуда.
- Спасибо, - сказал Александр Петрович. Повертев ручку в руках, он с вежливой улыбкой возвратил ее владельцу. – У меня своя есть.
- Тогда своей расписывайся. Да побыстрей! Чего ты время тянешь? У нас клиентов еще пять человек!
- Тогда привет клиентам, - произнес Тыквин.
И, неожиданно шагнув к комоду, проворно нагнулся и выдвинул нижний ящик.
- Ты чего?! – то ли успел, то ли не успел крикнуть приземистый в золотых очках и выронил папиросу.
Но Тыквин уже выхватил из ящика ту самую вещь, когда-то привезенную его родным отцом из далекого флагмана оборонной промышленности и сохранившую машинное масло на поверхности. Закрыв правый глаз, он прицелился и оглушительно выстрелил в люстру.
Бабах! Бабах! Бабах!
Плафоны лопнули и посыпались. Троих словно ветром сдуло; лишь блеск оптических стекол на миг задержался в комнате.
Но пропал блеск, и затих ветер вдали, сдувший этих официальных, и на выстрелы из-за полинялой шторы вышла его мама в вечернем темном платье с глубоким вырезом на груди и алой гвоздикой в черных, как южная ночь, волосах. Она устало прислонилась спиной к косяку и сказала:
- Ну вот и всё, Александр. Фенита... Сколько раз тебя предупреждать, что даже самый ненастоящий револьвер однажды может превратиться в самый настоящий.
Веревка с неба
Ночь звездная московская, необычайно тихая. И настоящий рыжий капитан Пустовский (тоже при звёздах). С ним – еще два милиционера. Был и коричневый чемоданчик со всем необходимым, включая зубную щетку и носки. И три года. Долгие три года, похожие лет на пять «без права на трактаты».
Раз в месяц я носил ему тяжелые спиртуозные передачи. Носил и подвешивал. Дело в том, что на четвертый этаж мои передачи поднимались на веревке, свисавшей с неба. И не зря. Это нужно было, чтобы санитары, «медики благодарные», не заставляли его по пятнадцать раз в день отжиматься от пола в коридоре и громко петь перед обедом «Боже царя храни!». А по субботам был у них так называемый «телевизор»: это когда длинный металлический инструмент человеку, сами понимаете, куда засовывают, поставив человека в коленно-локтевое положение и подключив прибор к городской электросети. Так что три года пронеслись. Как один пронеслись, и он вышел на волю с увеличенной печенью, но с просветлевшей головой и в неизменном прикиде: галстук в кривых огурцах, часики-котлы и пиджак «джазовый». С видавшим виды хлястиком.
Трое суток мы с ним с водкой и мелкими шпротами праздновали его чудесное возвращение, и маленькие птицы весенние пели за окном все трое суток, и давний приёмник ламповый передавал одну из наших любимых зарубежных мелодий.
Под музыку, вроде «Люби меня нежно», мы поехали отдыхать на берег теплого и большого, хотя и не Средиземного, а Черного моря. На солнце голыми поваляться и в соленую воду тела наши юные окунуть. Еще, быть может, джазок живой в ресторане послушать и круглым сочным персиком кого-нибудь на набережной угостить. К тому времени на моей сберкнижке накопилась приличная сумма из той сдачи, которую Тыквин оставлял на дне моей обеденной тарелки. Этой суммы вполне могло хватить на приморский отдых, на пару сотен «мерзавцев» (бутылка емкостью 100 мл) и два-три курортных романа. Хватило нам с ним и на билеты на право проезда в душном плацкартном вагоне поезда дальнего следования «Кинешма-Харьков» и на пиво в дороге. И там, в вагоне, он ночью просыпался и, растолкав меня, спрашивал: «Коля, скажи мне: Бдынск еще не проехали?.. А Ленинград?».
На море, заблуждая отдыхающих, он был верен себе. Он ходил по ночам в парусиновых туфлях по сверкающей лунной дороге, а днем, влажный и насупленный, крепко спал. Но не один, а с молчаливой, как сарай, женщиной из какого-то тихого безвестного городка, повесив на дверь в качестве «знака курортной любви» оранжевое, словно марокканский апельсин, полотенце. Тыквин эту женщину называл: «Веревкина ты моя ненаглядная». А она его никак не называла. Она боялась, что он её бросит на душной и многолюдной набережной. Она была членом профсоюза, старше его лет на семнадцать и, безусловно, со справкой по всяким там «букетам Абхазии».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Сложная обстановка
Еще время прошло. Не помню, сколько именно. Мы с теплого юга в столичную Москву вернулись, и в желтом свете фонарей был уже снег виден. Загрустив от этого, а также из-за усложнившейся политической обстановки, он пару недель не выходил из подъезда. Он не хотел никого видеть. Никого… В том числе и меня со всеми моими сомнениями и догадками. Вскоре он полюбил две вещи, из коих запомнилась мне одна, да и та не слишком новая: североамериканский кинематограф. Бог весть, откуда и чем была навеяны такие чувства, но, видимо, тем, что в одном из подвалов, в помещении ближайшего отделения ДОСААФ стал по ночам работать небольшой подземный кинотеатр культовых кинокартин того времени. Загадка столичного центра, откуда он взялся и как туда попадал Тыквин, но меня он с собою ни разу не позвал, ссылаясь на то, что «сам Бог выделил ему единственную именную контрамарку». Так что он первый, в отличие от меня, посмотрел в том подвале сперва кинокартину производства США «Аэрокосмические приключения насекомых», затем фильм производства не США «Последнее танго в Париже», затем еще пять-шесть кинокартин не менее ярких и культовых, а после любительскую киноленту «Пусть никогда не кончаются эти веселые времена рок-н-ролла». Про приезд в нашу страну Элвиса Аарона Пресли в золотом пиджаке и замшевых синих ботинках. Правда, не до конца.
Наверное, он хотел стать ходячим справочником Жоржа Садуля. Хотеть-то хотел, а так и не стал. На дворе уже была живая Перестройка, и стало в Москве не до ходячих справочников, тем более что всё взялись издавать, что раньше было под запретом. Издали массовым тиражом и богато иллюстрированную «Камасутру», и Александр Петрович утратил к ней давний повышенный интерес, хотя и остался верен тому, что великая Книга Любви – главный учебник всего человечества.
Как-то лихо и шумно пронеслись девяностые славные годы, когда в него стреляли раз пять и не попали тоже раз пять. В самом начале 2000-х он увлекся «теорией и практикой инвестиций», а также поиском «инновационных путей» к тому, как бы «чего полезного и нужного создать на месте заброшенных советских новостроек». Он кое-что создал. И вынужден был потом срочно купить билет на турбореактивный аэроплан в сторону офшорного Гибралтара. Но, к счастью, к нему какие-то трое пришли для выяснения кое-каких налоговых обстоятельств, и он, пока им подробно объяснял, что пятьдесят миллионов долларов за десять гектаров заброшенных земель и за пару полуистлевших носков на трубе слишком большая цена, на аэроплан опоздал. А то бы, сами знаете, что могло бы произойти с ним в противном случае. Об этом все газеты писали, и по телевизору показывали в прайм-тайм. Две недели подряд.
Вместе с тем очевидцы, знающие его, утверждают, что он кое-какие привычки прошлого сохранил в их неизменном виде, и вплоть до окончательного и полного идеологического кризиса (так называемый «ПИК 2014-го года») ему незаподло было из нашей подворотни выбежать и, хлопнув в плоские ладоши, одетые в серые нитяные перчатки, с угла Большой Дмитровки и Страстного бульвара на всю улицу басом закричать:
- Эх, ма! Мэрилин ты Монро!
Он и после кризиса выбегал и кричал то же самое. Из-за чего нарывался на грубость и непонимание со стороны прохожих. Но что такое грубость и непонимание со стороны прохожих? Почти ничего!
Личный анализ
Не раз я про всё это думал. Дома и на работе, на людях и в одиночестве. В транспорте, в Планетарии, в Нескучном саду и в самом ближнем к нашему дому кинотеатре, который давно уже снесён в связи с окончанием последнего сеанса. И даже когда спать ложился, опять про это думал, а после утром вставал и, вместо того чтобы растягивать резиновый эспандер, сидел на диване и снова думал о том же самом. И пришел к выводу, что в конце октября, в году приблизительно том же... Нет, нет! Опять не хочу уточнять позабытую дату. Скажу одно: ни мне, ни Александру Петровичу ни в коем случае нельзя было ничего бросать. Ни однажды начатых романов, ни фантазий, ни странных, сумбурных ассоциаций, ни всего остального и прочего. Воспоминаний тоже нельзя было бросать, и если все-таки кто-то из нас что-то бросил, то, наверное, с единственной целью: снова начать, но уже в ином качестве, в ином виде, в иное время. Вроде разметки новой, еще более грандиозной площадки под новое строительство или очередного романтического приключения с какой-нибудь девушкой или женщиной. Да, да! Именно так! Ведь что-то было и у нас в Москве, и под Москвой, и ночью, и днем, и было что-то на влажном и душном берегу далекого Черного моря с одной из них, которая была из тихого и приземистого городка. А еще было там, где он, по его личным рассказам, трогал пальцами дамские ключицы и тер её обе голени, мысленно восхищаясь старинными каналами и разводными мостами... Но все это - потом. А того, самого давнего и самого бурного романа, бросать было нельзя. Ни в коем случае! Хотя и он позади, и центр великого города, который был дан нам в одних ощущениях, но отнят в других. Памятник, фонари, кинотеатр напротив, цветочный магазин «Букет Абхазии», кондитерская в доме с неповторимым названием «Отель разбитых сердец». Все это – там. И из-за этого, из-за дистанции непреодолимой мои воспоминания печальны и смутны. Но кто опровергнет меня?
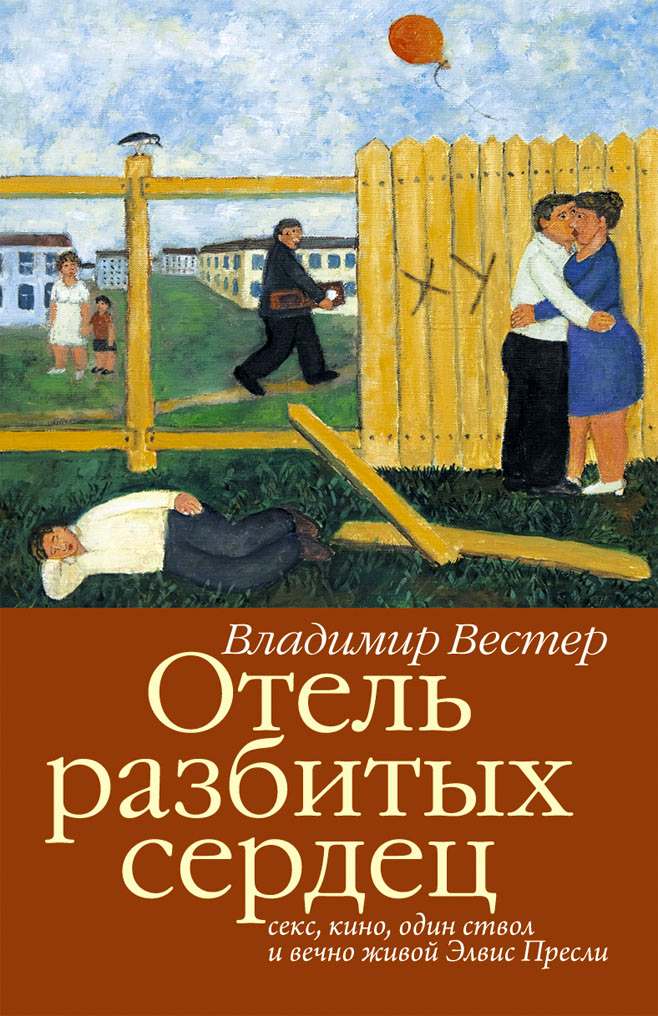
Оглавление журнала "Артикль"
Клуб
литераторов Тель-Авива