
Не так давно мне открылась бездонная прорва, в которую утекает время. С каждым годом оно утекает все быстрей и уносит с собой мою жизнь. И жизнь моих близких - друзей и врагов, без разбора. И даже память о них и о нас - все туда, в прорву, откуда нет возврата. Не в силах остановить утекающую жизнь, я ощутила потребность сберечь хоть крохи памяти, закрепить на бумаге образы тех, с кем судьба сталкивала на разных своих завитках, - для кого, не знаю: может, будущие поколения и читать-то разучатся.
Но всегда остается надежда - а вдруг? Не на бессмертие души, конечно, но на какое-то его подобие. Помните, как Пушкин себя утешал - "нет, весь я не умру..."?
ЮЛИК И АНДРЕЙ
Всю ночь я летела из Нью-Йорка в Париж. Погода была штормовая, и самолет без передышки швыряло из одной воздушной ямы в другую. В какой-то макабрический момент, когда стюардесса не удержалась на ногах и покатилась по проходу между кресел, мой сосед, совсем юный, спросил - почему-то шепотом: "Как вы думаете, мы сейчас разобьемся?"
Но мы не разбились и к утру благополучно приземлились в аэропорту Орли. Было это в те почти неправдоподобные времена, когда мы, приезжая в Париж, останавливались только у Синявских. Поначалу мы пытались было селиться в недорогих отелях, но Марья, которая к тому времени уже перессорилась со всем русским Парижем, быстро это своеволие пресекла, потому что не могла контролировать, с кем мы общаемся, когда ее нет рядом.
Через час после прилета я уже звонила у ворот дома в Фонтанэ-о-Роз. К моему изумлению, отворить мне вышел Андрей, которому обычно подобные операции никогда не доверяли. Он нетвердым шагом спустился с крыльца и направился от дома к калитке, странно покачиваясь, словно его сдувало с дорожки сильным ветром.
"Марья улетела на три дня в Лондон, - сказал он, отпирая калитку, - и велела мне тебя впустить".
Хоть Марья велела меня впустить, войти он мне не давал, так как застрял в приоткрытой калитке, явно затрудняясь в выборе дороги обратно в дом. Поскольку у меня в голове тоже все качалось и плыло после бессонной ночи в борющемся со стихиями самолете, я со своим увесистым чемоданом никак не могла протиснуться в узкую щель между Андреем и калиткой. Мы покачались вместе несколько мгновений, а потом он, ухватившись рукой за столбик забора, умудрился круто развернуться и отступить в сад, открывая дорогу мне и моему чемодану.
Я покатила чемодан к дому, спотыкаясь о неровные булыжники дорожки, а Андрей поплелся за мной, приговаривая с каким-то отчаянным самобичевательным восторгом:
"Марья уехала, и я пью! Когда Марья здесь, она мне пить не дает, - вот я и пью, когда ее нет!"
Тут мы подошли к крыльцу, и я стала тащить чемодан по ступенькам вверх. Это было непросто, тем более что Андрей, думая, что он мне помогает, навалился на чемодан всей своей тяжестью. Раскачиваясь на моей руке, он выкрикивал жалобно: "Что же мне делать? Что делать? Ведь она взбесится, когда узнает, что я тут без нее пил".
Наконец, мы ввалились в прихожую. Избавившись от чемодана, я переключила свое внимание на Андрея - я представила себе Марью в гневе, и мне стало его жалко.
"А откуда она узнает? - утешила я его. - Я ей не расскажу, и ты не рассказывай".
"Ничего не поможет, она все равно узнает, - безнадежно махнул рукой Андрей. - Она ведь страницы считает, сколько я написал, пока ее нет. А я нисколько не написал, потому что когда ее нет, я пью. Она ведь, когда здесь, пить не дает, вот я и пью, когда ее нет!"
Возразить на это было трудно, да и голова у меня раскалывалась с такой силой, что мне было не до возражений. Я чуть откачнула Андрея в сторону и прошла на кухню - там царил издавна знакомый мне беспорядок. В раковине громоздилась гора грязной посуды, стол был заставлен не поместившимися в раковине чашками с засохшими чайными мешочками. Я направилась к газовой плите, намереваясь поставить чайник, но Андрей перегородил мне дорогу: "Так ты не возражаешь, что я пью?"
Я пожала плечами - как я могла возражать против того, что он делал в собственном доме? - и протянула руку к чайнику:
"Делай что хочешь, а я попью чайку и лягу спать. У меня от этого перелета голова кружится".
Но он перехватил мою руку на полпути: "Может, ты боишься, что я буду к тебе приставать?"
У меня и мысли такой не было, - он выглядел в этот миг старым взъерошенным гномиком, о каком приставании могла идти речь? Но я не хотела его обидеть, и потому разыгрывая повышенный интерес к зажиганию газовой конфорки, сказала осторожно: "Но ты же не будешь, правда?"
В ответ на что он ударился в воспоминания о какой-то поросшей мхом забвения истории пятнадцатилетней давности, когда он и впрямь ко мне очень активно приставал на глазах моего мужа и своей жены. Как ни странно, историю эту, несмотря на давность, он воспроизвел весьма реалистично, и все это для того, чтобы выяснить, не обиделась ли я на него тогда. Потому что, если обиделась, то должна его немедленно простить и поверить, что сейчас он такого безобразия не повторит. Для вящей убедительности он доверительно поведал мне, что он давно уже импотент, так что бояться мне нечего.
Однако, когда, выпив чаю, - то есть я пила чай, а Андрей прямо из бутылки какую-то жидкость цвета чая, но точно не чай, - мы отправились наверх искать для меня подходящую постель, он по-дружески посоветовал мне устроиться в Марьиной спальне: "Понимаешь, там единственная дверь с замком. Марья теперь на ночь от меня запирается, говорит, что я похабник".
Мы вошли в Марьины покои на втором этаже - там царил тот же образцовый беспорядок, но дверь и вправду запиралась. Я попыталась выпроводить Андрея на лестницу: "Ты иди вниз и пей, а я помоюсь, переоденусь и пару часов посплю".
Он с легкостью согласился и повел меня в ванную, напомнив мне на прощанье, чтобы я не забыла запереться. Я наскоро помылась, набросила халат и вернулась в Марьину спальню, старательно закрывши замок на два поворота. Но лечь в кровать мне не удалось - там уже, сладко похрапывая, спал хозяин дома.
Я на секунду опешила, но будить его не стала, а отперла дверь и отправилась на поиски другой подходящей постели. Для начала я поднялась на третий этаж в кабинет Андрея и не поверила своим глазам. Кабинет, как видно, только что отремонтировали, и там было безукоризненно чисто, стены были оклеены новыми обоями, диван не продавлен, нигде ни пыли, ни разрозненного бумажного мусора. В центре блестящего полированного поля письменного стола одиноко белела стопка бумаги - верхний лист был наполовину исписан размашистым крупным почерком. Не в силах преодолеть любопытство я, зная, что нехорошо читать чужие бумаги, все-таки прочла:
"Подумать только - голос такой чистый, речи такие возвышенные, такие культурные, а у самой - пизда!" (Цитирую по памяти, но главное охальное слово привожу точно, ибо до того, кажется, знала его только на слух.)
Опасаясь что-нибудь нарушить, я не решилась улечься спать в таком угнетающе аккуратном помещении и спустилась по лестнице в комнатку попроще, без дорогих обоев и полированного стола, но тоже чисто убранную. Она находилась в точности под кабинетом Андрея и представляла собой упрощенную его копию - на том же месте окно, диван, книжные полки, только все более скромное. В центре письменного стола вместо стопки писчей бумаги, лежала открытая разлинованная тетрадь, исписанная аккуратным мелким почерком. Я наклонилась к ней и прочла:
"Она говорит так умно и понимает то же, что и я. Как странно думать, что она - женщина!" (Опять цитирую по памяти, не дословно.)
"Во дает Синявский! - восхитилась я. - Я всегда знала, что он человек с двойным дном, но могла ли я представить себе, как он, перевоплощаясь, бегает вниз и вверх по лестнице, чтобы разным почерком и разными словами писать хоть не то же самое, но похожее?"
В этом кабинете поскромней я и легла спать. И только к вечеру, проснувшись, обнаружила, что это детская двенадцатилетнего сына Синявских, Егора.
И что тетрадь тоже его.
И что Андрей пишет новую книгу, роман-исповедь "Спокойной ночи", пишет трудно, без радости. Но только когда книга эта вышла из печати, я поняла, почему Марье приходилось считать страницы - может, если бы она их не считала, он бы никогда ее и не дописал, так натужно и не по-синявски напряженно тянется текст и цепляются друг за дружку главы, задавая порой неразрешимую загадку - зачем они тут?
Зато потом, на кухне, пока я мыла чашки, Андрей увлеченно расписывал мне проект другой своей книги, за которую он возьмется, как только покончит с этой, будь она проклята! Та, другая, предполагалась быть о зловредном мальчишке, погубившем поочередно всех членов своей семьи, и имя ей было уже придумано - "Крошка Цорес". Образ крошки Цореса был Андрею душевно дорог и распалял в нем целую гамму чувств - с бутылкой в руке он метался из угла в угол, увлеченно выуживая из памяти зловещие детали гибели высоких и статных старших братьев маленького судьбоносного уродца. И мне было ясно, что я присутствую на редкостном спектакле - передо мною выступал истинный Андрей Синявский - Абрам Терц двойным дном наружу!
Я перечитала написанное и спросила себя - зачем я это пишу?
Андрея уже нет в живых. И Юлика тоже.
Они все дальше удаляются от нас, и человеческие их черты стираются, затуманиваются, бледнеют, превращаясь в некое обобщенное псевдогероическое лицо. Тем более что круг тех, кто их помнит, с каждым годом становится все уже. И скоро исчезнет вместе с памятью о них.
Нужно ли сохранять истинную правду о тех, кого уже нет с нами, - не о мифических фигурах, а о живых людях со всеми их достоинствами и пороками?
Не знаю.
Но какая-то сила заставляет меня ворошить прошлое, выкапывая оттуда несущественные мелочи, осколки событий, обрывки разговоров.
Вот мы с Юликом приходим в Дом Литераторов - давным-давно, еще до процесса. И сталкиваемся в вестибюле с маленьким человеком-птичкой - острый клювик, блестящие глазки-бусинки за толстыми стеклами очков, поэт-философ Гриша Померанц. Вступаем в беседу. Беседа очень возвышенная - о тонких материях и ускользающих истинах. Гриша говорит, горячо, красноречиво, мы с Юликом внимаем, почтительно кивая в знак согласия.
Наконец, Гриша покидает нас - то ли иссякает, то ли находит других слушателей. Только он отходит, как Юлик выразительно вскидывает руки и произносит, сильно грассируя, фразу из известного анекдота об интеллигенте, приценивавшемуся к античной вазе: "Усха-а-аться можно!"
А вот другое воспоминание - намного позже, на целую жизнь:
Мы сидим с Андреем и Марьей в очередном хлебосольном иерусалимском доме вокруг стола, уставленного всякой аппетитной снедью в честь заезжих знаменитостей. Они как раз завершили работу над первым номером журнала "Синтаксис", и речь за столом идет исключительно о журнальном деле. Правда, и хозяева, и остальные гости к этому делу никакого отношения не имеют, но все вникают в речи парижских гостей с глубоким почтением. Марья, гордясь собой и желая подчеркнуть свое превосходство, критикует нас с Сашей за неправильную позицию, политику, выбор авторов и все остальное журнала "22", а Андрей пытается ее урезонить: "Ну, что ты стараешься, Марья? Они же нам не компаньоны, а конкуренты".
"А это мы сейчас выясним, - восклицает Марья с очевидным подвохом. - Вот пусть скажут, зачем они журнал издают!"
И обращается ко мне - глаза ее искрятся разоблачительным восторгом. Я не сразу нахожусь, что ответить. Мы к тому времени только-только успели выпустить три номера журнала "22" и еще не доросли в этой деятельности до экзистенциальных вопросов типа "зачем" и "почему".
"Чтобы печатать те произведения, которые никто другой не напечатает", - наконец говорю я нетвердым голосом, как школьница, сдающая трудный экзамен и не уверенная в правильности ответа:
"Вот и дураки! - радостно объявляет Марья. - А я издаю журнал для того, чтобы меня боялись!"
И обводит присутствующих победительным взглядом.
А нам, лопухам, даже в голову не приходило, что кто-то должен нас бояться!
Ведь ни ей, ни нам не дано было предвидеть, что именно в нашем журнале, в номере 48, через много лет появятся разоблачающие Андрея показания С.Хмельницкого под титлом «Из чрева китова», которые никто кроме нас не решился бы тогда опубликовать. Показания эти, как и их предистория, заслуживают, возможно, отдельной книги – романа-триллера, не меньше, - а пока я попытаюсь рассказать о них в нескольких абзацах. Тем более, что 48 номер журнала «22» стал библиографической редкостью и даже в нашем архиве остался один-единственный, рассыпающийся на отдельные листочки, экземпляр.
Вот его зачин:
«Последнюю часть своего выдающегося произведения «Спокойной ночи» А.Д.Синявский почти всю – больше ста страниц - посвятил мне... Я мог бы сознаться, что нахожу эту книгу плохой – бесвкусной, вычурной, претенциозной... Но Бог с ней, с книгой. Поговорим о моем портрете, нарисованном в ней. Этот портрет ужасен. Я представлен... «скорлупой», из которой вырезана душа. Все гнусное, что может сказать человек о другом человеке, тем более – о долглетнем друге и соучастнике, сказал А.Д. обо мне. Сказал, справедливо полагая, что в контраст с моеЙ черной личностью его собственная безупречная личность чудесно высветится. Кроме того, тут веет и совсем высокими материями: философский дуализм, извечная борьба тьмы со светом. Потом что если я есть воплощенное зло, то сам А.Д. получается воплощенным добром...Я защищаю себя еще и потому, что публично очернив мою скромную личность, А.Д. нарушил неписанный закон, соблюдавшийся нами долгие годы – закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили.
...А.Д. хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье Замойской. Она была ...символом иного, нам недоступного существования...А потом меня пригласили в особую комнату и я стал секретным сотрудником, «сексотом» или, если хотите, стукачом. С подпиской о неразглашении... И тут меня осенило. А.Д. встречался с Элен куда чаще меня. Не могли они обойти его своим вниманием. И задумал я узнать у друга правду. И гуляя с ним по Гоголевскому бульвару, сказал ему: «Слушай-ка, ты часто докладываешь о своих встречах с Элен?» И друг честно ответил: «Обычно раз в неделю». Потом дико взглянул на меня и спросил: «Откуда знаешь?» Так мы вступили в неположенный, по правилам Органов, контакт. Было установлено, что «курирует» нас один и тот же деятель и... мы договорились о координации наших докладов».
Не стану пересказывать всю драматическую историю С.Х и А.Д., изложенную в этих показаниях весьма искусно, - я думаю, и так все ясно. Не могу однако, не отметить, что при чтении этого потрясающего документа, чем-то напоминающего «Человека из подполья» Ф. Достоевского, по спине бегут мурашки. Вот что написал Саша Воронель в статье, предваряющей эту публикацию:
«Пятьдесят лет назад начали эти люди свой жизненный путь вместе. С коротких штанов началась их дружба-соперничество...сопровождаемая смертельным страхом и ледяным недоверием. И ложью. Возможны ли такие отношения? Может быть, только такие и возможны? Они делились мельчайшими движениями души. Они упивались взаимопониманием... При этом Синявский пишет, что в любой момент ждал ножа в спину. Я думаю, что подобное свидетельство сталинской эпохи еще не было опубликовано.»
И все же на публикацию рукописи Хмельницкого мы решились не только из морально-эстетических побуждений, но и потому, что поведение Синявского после его отъезда в Европу стало нам к тому времени казаться сомнительным. У нас накопилась некая цепочка не укладывающихся ни в какую благожелательную концепцию фактов. Особенно терзала нас его доведенная до бессмыслицы, непостижимая вражда к «Континенту» В. Максимова, в которую он во что бы то ни стало хотел вовлечь и нас, и наш журнал. Можно было подумать, что уничтожение «Континента» стало главной жизненной задачей парижского периода жизни Андрея. Последней каплей, убедившей нас, что имеет смысл обнародовать свидетельства Хмельницкого, был неприемлемый для нормально-либерального разума отказ Андрея выступить в защиту А.Д.Сахарова, похищенного тогда советской властью и упрятанного невесть куда.
Как раз в разгар борьбы всех "демократических сил" мира за освобождение Сахарова в Иерусалиме проходила международная конференция памяти Б.Пастернака, на которую Синявский был приглашен почетным докладчиком. В.Б. - оператор израильского телевидения российского происхождения, большой поклонник Абрама Терца, склонил свое начальство отправить его съемочную группу в Иерусалимский университет, чтобы взять у Синявского интервью в защиту Сахарова. Только тот, кто знает пристрастия израильского телевидения того времени, поймет, как трудно было уговорить его руководство потратить несколько минут драгоценного телевизионного времени на какую-то малоинтересную русскую тусовку.
Телегруппа втащила свое оборудование в вестибюль, ведущий в зал заседаний. За стеклянной дверью зала хорошо просматривалась гордо восседающая в центре почтенного академического сообщества чета Синявских. Установив камеры и свет, оператор начал жестами вызывать Андрея. Тот неуверенно поднялся и вышел в вестибюль, чего Марья, увлеченная каким-то спором, поначалу не заметила.
"Я от израильского телевидения, - представился В.Б. - Я хотел бы взять у вас интервью".
"Вы говорите по-русски! - просиял Андрей, обожавший рекламу. - Валяйте, берите свое интервью!"
"Как вы относитесь к тому, что академик Андрей Сахаров исчез, и вот уже больше месяца советские власти отказываются сообщить, где он и что с ним?"
Улыбка Синявского угасла:
"При чем тут академик Сахаров? Я думал, мы будем говорить о литературе, а не о политике"
"Но ведь... академик Андрей Сахаров... его жизнь в опасности... и мы все должны..." - пролепетал обескураженный В.Б.
К этому времени из зала выскочила встревоженная Марья - не в ее привычках было надолго выпускать Синявского из-под надзора. Она с ходу обрезала зарвавшегося журналиста:
"Писатель Синявский никому ничего не должен. Он литератор и никаких политических заявлений делать не собирается!"
Оператор В.Б. представил себе, какое выражение лица будет у начальника отдела новостей, когда тот услышит, что с идеей интервью ничего не получилось, и рассердился:
"Тогда я сниму, что вы отказываетесь выступить в защиту Сахарова!" - объявил он и направил камеру на писателя, совсем недавно заслужившего мировую славу жертвы советского режима. Но он не знал, с кем он имеет дело, - крыльями раскинув руки и выпятив грудь, разъяренная Марья закрыла собой тело мужа, совсем как Александр Матросов.
"Ничего вы не снимете! Я не позволю!"
"Свет!" - крикнул оператор и, стараясь проигнорировать Марью, включил камеру - он все еще не понял, с кем он имеет дело.
Марья подпрыгнула и ловко стукнула сумочкой по лампе прожектора.
"Убери камеру, сука, а не то я вам тут все лампы разобью!" - завопила она и снова замахнулась сумочкой.
"Слушай, Вик, пойдем отсюда, ну ее ко всем чертям!" - сказал осветитель, боясь за свои драгоценные лампы, и решительно выключил свет.
На том эта история и закончилась, оставив в недоумении многочисленных свидетелей, высыпавших из зала на крики и грохот.
Все задавали себе и друг другу один и тот же вопрос: почему Синявские так страстно отказывались сказать хоть слово в защиту Сахарова? Они ведь были хорошо знакомы с Андреем Дмитриевичем и бывали у него в гостях - мы сами их туда привели. И бояться им было нечего - они уже давно и благополучно жили в Париже, пользуясь даже известной благосклонностью советского посольства. И только информация, представленная сообщением С.Хмельницкого, могла пролить хоть и смутный, но все же свет на причины их странного поведения.
Публикация показаний Хмельницкого в нашем журнале положила конец нашей многолетней дружбе с Синявскими. И мы почти перестали ездить в Париж - без постоянного, порой невыносимого, присутствия Марьи, до этой ссоры зорко не выпускавшей нас из поля зрения, прекрасный город как-то опустел и потерял для нас половину своего магического очарования. Разве порой, проходя по усыпанным осенними листьями бульварам, мы замечали поспешно промелькнувшую мимо тень Марьи, пролетающей на метле, но охотилась она уже не на нас, а на кого-то другого.
И мы чувствовали себя осиротевшими.
О чем мы грустили - о навеки потерянной неволе любви и ненависти? Или нас просто терзала ностальгия по собственной прошедшей молодости?
Ностальгия по тому времени, когда еще были надежды, по тому дружескому кругу, который еще не знал партийных разногласий, по той светлой уверенности в своей правоте, которая может возникнуть действительно только в трагических обстоятельствах.
Кто-то сказал, что масштаб личности определяется тем завихрением пространства, которое она вокруг себя создает. Люди всегда остаются людьми - с недостатками, пороками, мелкими чувствами, с болезнями, склоками, ошибками. Синявский и Даниэль были люди, как все, но они создали вокруг себя такое потрясающее завихрение пространства, что течение истории России, а может - и всего мира, - изменило свой курс. И изменило судьбы многих, втянутых в эту воронку.
С Даниэлями мы подружились в самом начале нашей московской жизни, когда мы с Сашей, веселые и бездомные, порхали над зазывными огнями большого города, не зная, где нам приведется приземлиться. Мне, как всегда, повезло - старый харьковский друг привел меня в дом Даниэлей, чтобы повидаться с кем-то, кого я давно забыла. Я вошла в этот дом - и там осталась. Саша забежал туда за мной - и тоже остался, как прикипел.
Надолго. Тогда нам казалось - на всю жизнь. Но жизнь оказалась длинней и коварней.
Жили тогда Даниэли в старом доме в Армянском переулке. Им принадлежала узкая асимметричная комната, сконструированная из округленных стен различного радиуса, причудливо пересекающихся под разными углами. Сами стены эти, по утверждению хозяев, состояли из прессованных клопов, что подтверждалось неутомимой передислокацией несчетных полчищ клопов живых. "Они время от времени воскресают, а потом опять превращаются в прессованных", - всерьез поясняли хозяева свое нежелание предпринимать какие бы то ни было шаги к избавлению от насекомых: все равно, мол, не поможет.
Хозяева были веселые и молодые - Господи, как давно это было! - их звали Лариса и Юлик Даниэль. Они ничем еще не были знамениты: никому не дано было тогда провидеть Николая Аржака, героя всемирно известного процесса Синявского-Даниэля, в сутуловатом черноглазом красавце с длинной верхней губой, который, когда я вошла, проворно бросал пригоршни клопов в открытый чемодан, заполненный блузками и нейлоновыми чулками. И уж конечно никому не дано было провидеть "мать русской революции" Ларису Богораз в темнолицей растрепанной вакханке, ловко сшибавшей зазевавшихся клопов с потолка и со стен в тот же чемодан. Так они сводили счеты с чрезмерно зажившейся у них провинциальной гостьей, которой чемодан принадлежал.
Такими я увидела Даниэлей, когда впервые переступила порог их беспутного дома. Я вошла туда непрошеная, незваная и ни с кем не знакомая, но никто не удивился: в этот дом все так входили, не ожидая приглашения. Хозяева и гости продолжали гоняться за клопами, не обращая внимания на мальчика Саню лет четырех, который сидел на горшке в углу и самозабвенно читал "Госпожу Бовари" Флобера. В особо трогательных местах он плакал беззвучно, не рассчитывая на утешение, - совсем как взрослый.
Дом Даниэлей был для меня открытием мира. Мы были тогда совсем зеленые, только что из провинции, тыкались, как слепые котята в джунглях чужого, равнодушного к нам огромного города. И вдруг таинственный "сезам" отворил перед нами дверь в глухой стене, и мы попали в самый центр, на какой-то ослепительный бал, где все сверкало, пенилось и кружилось. И этот бал не прекращался много лет. Со временем нам открылся вход во многие другие дома, но все это было потом. А тогда - это было первое приобщение к той жизни, о которой мы мечтали. К сладкой жизни...
Бывало, мы заявлялись к Даниэлям во вторник и уходили только в субботу. Четыре дня подряд! Не ходили на лекции, не ходили на работу... И не спали. Или спали, не раздеваясь, - дремали и просыпались. Какие-то люди входили, сбрасывали пальто в угол возле дверей и садились куда придется - кто на пол, кто на подоконник. Приносили рукописи, читали стихи, делились литературными сплетнями, обсуждали последние культурные новости. Иногда народу было так много, что не все друг друга знали. Однажды какой-то завсегдатай литературных салонов натолкнулся в толпе на Юлика и радостно воскликнул: "Привет, старик! А ты как сюда попал?" Помню, мы как-то привели к Даниэлям одного юного поэта. Мы пришли с ним в семь вечера, а к семи утра, когда он не явился домой, его мама уже обежала все московские морги и больницы - мальчишка забыл ей позвонить, так он был потрясен тем, что ему в этом доме открылось. Поистине - открылась бездна, звезд полна! Даниэли были центром литературного завихрения, превращающего в подлинную жизнь виртуальные трепыхания прядильщиков слов. В эпицентре всегда был Юлик. Толпы поэтов ходили к нему читать стихи - у него был абсолютный слух на поэзию. Он на лету схватывал оригинальный образ и с ходу различал несамостоятельность, фальшь, притворство. Он был истинный литературный критик, чутьем отличавший подлинное от подделки. Чего я не могу сказать о литературных критиках-профессионалах - похоже, превращение литератора в официального судью своих собратьев по перу отшибает у многих из них истинное понимание. В печальный список глухих к чужому слову ценителей этого слова я с горечью включаю и Синявского, - мне пришлось убедиться в этом не раз на протяжении многих лет нашей садо-мазохистской дружбы.
Первый раз я увидела Синявских под аккомпанемент странной фразы, прозвучавшей мне навстречу еще до того, как я вынырнула из-за старого платяного шкафа, отгораживающего комнату Даниэлей от любопытных взглядов многочисленных соседей.
"Что хуже - убить или украсть?" - спрашивал незнакомый голос, произносивший русские слова с едва заметным искажением, будто спотыкаясь на каждом звуке.
Я тихо проскользнула в комнату - гостей было немного. Одеты они были непривычно красиво и вели себя не по-русски вежливо - не кричали, не размахивали руками, не перебивали друг друга, хоть поднятый ими вопрос взволновал всех чрезвычайно.
Юлик бросился в бой первым - он яростно отстаивал преимущества воровства перед убийством, его собеседники вежливо, но настойчиво возражали, так что по мере нарастания спора оба эти деяния обрели некий романтический ореол, и уже казалось не зазорным ни убить, ни украсть. Гости, которые вытащили этот диковинный вопрос на обсуждение, были сами столь же диковинны - они были иностранцы, настоящие французы из Парижа. Я опознала их сразу, хоть не видела до тех пор вживе ни одного иностранца: год шел пятьдесят шестой, и створки железного занавеса только-только начали давать трещину, чуть приржавленную по краям. В эту-то трещину и пролезли два иноземных слависта, отличавшихся от нас не столько дубленками и ароматом неведомых нам деодорантов, сколько полным неприятием идеи воровства.
Главным их оппонентом был невзрачный бородач, обладатель косого глаза и неотразимого красноречия. Он возражал кровожадным французам, готовым оправдать убийство, продиктованное высокой страстью, с позиций, поразивших меня тогда не менее, чем сама тема диспута: "Убить - значит загубить душу. А душа священна, она дана человеку Господом, и человек не смеет ее отнимать. А вот вещи не существенны, они - дело рук человеческих, их и стибрить не грех".
Французы слова бородача отмели с налету, ибо, заявили они, не душа священна, а собственность. Но поскольку у нас с Сашей никакой собственности не было, для меня, наивной девочки из провинциального города Харькова, слова косого бородача прозвучали музыкой сфер.
"Кто он?" - спросила я свою соседку, высокомерную блондинку монашеского вида.
"Мой муж, Андрей Синявский", - гордо ответила блондинка, неприязненно сверкнув на меня выпуклыми линзами очков.
Имя это ничего мне не сказало, ведь мне не дано было тогда провидеть будущего злокозненного нарушителя спокойствия Абрама Терца в этом велеречивом предстателе русского народа, утверждавшем его духовную исключительность на основании его артистической склонности к воровству.
И вообще никому ничего не дано было тогда провидеть, время еще не пришло. Была тогда оттепель, время больших надежд и больших ожиданий, - казалось, что все еще может наладиться и пойти по-хорошему. Еще не написаны были "Суд идет" и "Гололедица", еще не задуманы "Искупление" и "Говорит Москва". Еще не полностью определилось коренное расхождение между советской властью и советской интеллигенцией, и советские танки не ворвались в притихшую Прагу. Все это было еще впереди.
А пока квартира в Армянском переулке жила своей особой, трудной и восхитительной жизнью, кажущейся мне теперь почти безумной. Помню, как однажды Ларка весь вечер простояла, склонясь над обеденным столом, на который она водрузила полученную от кого-то в подарок старую тахту. Дело было в том, что тахта не помещалась в полукруглой выгородке, служившей Даниэлям спальней, и Ларка решила отпилить от нее один угол. Пила у Ларки была тупая, а дерево, из которого была сделана тахта, оказалось невероятно твердым, так что работа, представлявшаяся поначалу простой, затянулась на полночи. Наконец под торжествующий Ларкин вопль проклятый угол с грохотом рухнул на пол, и Юлик с Сашей потащили тахту в выгородку. С трудом протиснув громоздкое сооружение в узкую щель, соединявшую выгородку с комнатой, они обнаружили, что Ларка отпилила не тот угол. Не помню, чем эта история закончилась, - по-моему, Ларка потратила вторую половину ночи на отсечение другого угла, в результате чего дважды обрезанная тахта вписалась в выгородку и стала воистину соответствовать головокружительной архитектуре даниэлевского жилья.
Вообще, как ни странно, весь образ жизни этой семьи соответствовал фантастической архитектуре их комнаты, вырезанной из огромного бального зала в форме ломтя круглого торта, так что у основания она выглядела как острый угол, а у вершины огибалась двумя сходящимися дугами, украшенными по краю остатками лепного карниза, завершающими сходство с тортом.
В те времена кроме Синявских постоянным гостем дома Даниэлей был их ближайший друг, Сережа Хмельницкий, о котором я здесь писать не буду, - человек он особый, достойный отдельной главы в моих воспоминаниях, но можно прочесть о нем у Синявского в романе "Спокойной ночи". Эти трое - Юлик, Андрей и Сережа - были дружны задолго до того, как мы высадили в их мирок свой десант.
Каких только типажей не заносила в этот дом судьба. В появлении некоторых из них была повинна и я - и об одном мне хочется рассказать, очень уж экзотичен!
Я тогда переводила "Балладу Редингской тюрьмы" О.Уайльда и регулярно возила переведенные куски Корнею Чуковскому, внимательно следившему за моим продвижением по этому неподатливому для русского слова тексту. Приезжаю я однажды в Переделкино, а Корнея Ивановича нет дома. Экономка Маша проводит меня в гостиную со словами "велел ждать" и оставляет там в обществе красивого моложавого человека, листающего книжку, заполненную иероглифами. Естественно, между нами завязывается беседа, и незнакомец сообщает мне, что он приехал, чтобы возвратить К.И. его книжку, переведенную на японский язык, которую он брал почитать. Дальше между нами происходит быстрый диалог, больше подходящий для театральной сцены, чем для реальной жизни - не следует забывать, что год тогда стоял то ли 1956-й, то ли 1957-й, и заграница казалась мне досужей выдумкой изобретательного ума.
Я: А где вы выучили японский язык?
Он: В университете, в Токио.
Я: А как вы попали в Токио?
Он: Сел в самолет в Лондоне и прилетел в Токио.
Я: А как вы попали в Лондон?
Он: Сел в самолет в Женеве и прилетел в Лондон.
Я: А как вы попали в Женеву?
Он: Сел в самолет в Александрии и прилетел в Женеву.
Я: А как вы попали в Александрию?
Он: В Александрии я родился.
Токио, Лондон, Женева, Александрия - ну и набор! Значит, все эти города существуют, и в некоторых из них можно даже родиться! Но тогда возникает главный вопрос: "А как вы попали сюда?"
Он: Из Владимирской тюрьмы.
Я: А как вы попали во Владимирскую тюрьму?
Он: Меня привезли туда из Мукдена.
Я: А как вы попали в Мукден?
Он: У меня там до войны был бизнес - двадцать четыре текстильные фабрики и банк.
Я: Да кто вы такой, черт побери?
Он: Вы хотите узнать мое имя? Меня зовут Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири.
Я: (задохнувшись) Еще раз, простите?
Он: (с невозмутимой улыбкой) Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири.
Мы потом назвали этим именем нашего щенка, но пришлось сократить его до простого Харуна - слишком уж получалось непроизносимо. Конечно, он кокетничал необычностью своей биографии, но это не помешало мне - а может, даже и помогло - с ходу принять решение: человека с такой биографией не упускать. Тем более что шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири, закончив свои дела с К.И., вовсе не торопился уходить, а дождался, пока я закончила свои, и мы вместе отправились в Москву. По дороге он объяснил мне, откуда у него такой отличный русский - много лет он провел в одной камере со знаменитым ныне, а тогда старательно вычеркнутым из народной памяти поэтом Даниилом Андреевым, сыном Леонида Андреева, и тот все эти годы обучал его языку, воспитывая себе читателя и собеседника.
Я, затаив дыхание, слушала его рассказ, сопровождавшийся чтением стихов Даниила Андреева, а он, истолковавши мое внимание по-своему, пригласил меня назавтра в "Националь".
Стыдно признаться, но я была настолько наивна - а по другой версии, настолько хитра, - что пришла на это свидание в сопровождении мужа и еще одного приятеля, которым все уши прожужжала удивительным новым знакомым. Увидев меня в такой компании, Харун на миг задохнулся от возмущения, но тут же взял себя в руки, и мы провели отличный вечер, хоть заплатил за всю ораву Саша, а Харун демонстративно дал огромные чаевые оторопевшему гардеробщику.
В результате мы с ним подружились и, конечно, незамедлительно повели его к Даниэлям. Там с любопытством его выслушали и тут же забыли, переключившись на какой-то новый объект интереса. Однако он не отстал, а прилепился к Сереже Хмельницкому, с которым открыл небольшой бизнес по переводам японской прозы на русский язык - он делал подстрочники, а Сережа, поэт, человек литературно очень одаренный, полировал их и превращал в хорошую русскую прозу. Выяснилось, что Харун - почти бездомный и живет со своей недавно обретенной женой - работницей подмосковной текстильной фабрики, за ширмой в огромной комнате женского заводского общежития. Поэтому часто, после работы над очередным японским рассказом, он оставался ночевать у Сережи, который сам с большой семьей жил в одной, - правда, большой и разгороженной шкафами, - комнате в коммунальной квартире.
Однако мысль о слишком романтической биографии Харуна не давала Сереже покоя. И вот как-то ночью он вылез из-под одеяла, на цыпочках прокрался к висящему на спинке стула пиджаку спящего гостя и, дрожа от страха, вытащил у того из кармана паспорт. Зажав его в потной ладони, Сережа, "как был, неодет, в исподнем" (цитата из стихов С.Хмельницкого) выскользнул из комнаты в туалет и там прочел, что владелец паспорта - Рахим Зея, татарин, место рождения - город Мукден, Маньчжурия. А ведь мы до того выяснили, что в картотеке Института ВИНИТИ, где наш Харун подрабатывал рефератами статей из японских журналов, он числится под своим труднопроизносимым именем из "Тысячи и одной ночи"!
Вся наша компания пришла в возбуждение - что бы это могло означать? И вот однажды, набравшись смелости, я спросила Харуна, почему в каких-то кругах его называют Рахим Зея. Он поднял брови - в каких это кругах? Я неопределенно махнула рукой - среди переводчиков с арабского и фарси. Это прозвучало почти правдоподобно, так как я тогда и впрямь переводила с фарси и водилась с себе подобными. Не знаю, поверил он мне или нет, но отрицать не стал - он-то знал, что написано в его паспорте. И рассказал очередную драматическую историю, как после выхода из тюрьмы ему выдали паспорт на имя Рахима Зея, татарина, место рождения - город Мукден, и выслали в грузинский город Зугдиди, откуда ему удалось вырваться только благодаря удачной женитьбе на работнице подмосковной текстильной фабрики.
А в ответ на требование новоявленного татарина вернуть ему его фамильное имя, ему довольно грубо заявили, что Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири, место рождения - город Александрия, Египет, скончался после тяжелой болезни в 1945 году; юридически заверенная справка об этом давно отправлена его скорбящим родственникам. А двадцать четыре текстильных фабрики и банк перешли в собственность Китайской Народной Республики, не допускающей на свою территорию иноземных эксплуататоров. И посоветовали поскорее забыть свое прошлое, если он не хочет, чтобы подтвержденные справкой факты подтвердились самой жизнью.
До сих пор не знаю, что в этой истории было правдой, что выдумкой, хоть потом на протяжении долгих лет сталкивалась с Харуном на разных переводческих тусовках. Из дома Даниэлей его, однако, потихонечку вытеснили - скорей всего, по требованию Марьи Синявской, которой было чего опасаться.
Нас Марья вначале тоже сильно невзлюбила, потому что не хотела терпеть десантников, высадившихся на ее территории. Кроме того, ревнивая женская интуиция немедленно подсказала ей, что нас у Даниэлей признали родными, а она хотела, чтобы родными были только они с Андреем, да разве еще Сережа, хоть к нему она всегда относилась настороженно. И не без оснований. Но все же терпела его - ведь это он познакомил ее с Андреем, с которым дружил с детских лет. Боясь слишком уж отвлечься от основной линии, все же не удержусь упомянуть, что в этой детской дружбе периода "до Юлика" был еще и третий мальчик - Коня Вульф, сын немецкого писателя-коммуниста, ставший впоследствии Президентом Академии Художеств ГДР, а главное - родной брат грозного начальника Штази Маркуса - а по-нашему Миши - Вульфа.
Несмотря на Марьино недовольство, мы скоро стали почти неразлучны с Даниэлями и Сережей. Они приезжали к нам, в нашу подмосковную глушь - бегать на лыжах, собирать грибы, купаться в реке. Смотря по сезону. Мы приезжали к ним, ночевали то тут, то там - это был настоящий запой! Андрей же к нам не ездил, да и у Даниэлей появлялся нечасто - он тогда делал карьеру в литературе и берег себя. Нас он сторонился, был он человек сложный, с двойным, а то и тройным дном - это чувствовалось сразу. Когда через много лет он прочел нам свою повесть "Пхенц", о пришельце из другого мира, мы сразу решили, что он написал о себе. Даниэли бегали к Синявским в гости тайком от нас, а мы, догадываясь об этом, ревновали и ужасно обижались. Мы ведь и не подозревали об их тайной деятельности, а они, небось, были уже ею всецело поглощены.
Из-за этих таинственных встреч наших друзей с Синявскими мы даже как-то провели ночь в милиции. Поздним зимним вечером мы засиделись у Даниэлей и решили остаться у них ночевать. Жили мы тогда в отрезанном от мира подмосковном поселке, куда после восьми вечера не ходил никакой транспорт. О такси не могло быть и речи - у нас и на троллейбусный билет не всегда хватало. И вдруг, сильно заполночь, раздался пронзительный телефонный звонок - телефон был коммунальный и висел в дальнем конце коридора. Юлик сразу понял, что звонят им, и стремглав ринулся в коридор, надеясь добежать до телефона прежде, чем разбуженные звонком соседи устроят скандал. Вернулся он озабоченный и, не глядя нам в глаза, пробормотал:
"Братцы, простите, но вам придется уйти. К нам сейчас приедут одни люди... - он замялся, - я не могу сказать, кто. Они не хотят, чтобы их тут видели".
"Куда же мы пойдем среди ночи?" - ахнула я, не веря своим ушам, и посмотрела на Ларку, которая всегда декларировала свой возвышенный гуманизм. Но она молчала, - вероятно, догадывалась, о ком идет речь.
Саша спорить не стал, он схватил в охапку наши жидкие пальтишки, и мы выкатились на ночную заснеженную улицу. Идти было абсолютно некуда, все наши немногие дальние и ближние знакомые давно уже спали. Болтаться по улице до утра тоже было невозможно, - наша неполноценная одежда с угрожающей скоростью приняла температуру окружающего воздуха, а она была изрядно ниже нуля. И мы пришли к дерзкому, но, как нам казалось, разумному решение попробовать снять номер в гостинице "Москва", благо до нее было не так уж долго добираться пешком. Похоже, мороз окончательно отшиб нам мозги, иначе мы бы все же задали себе вопрос, чем мы собираемся за эту гостиницу расплатиться.
Но, как оказалось, вопрос этот был бы праздный, потому что никто и не думал давать нам ночлег в гостинице "Москва" - "она для иногородних и для иностранцев" нелюбезно пояснила нам хмурая администраторша. Поскольку мы не подходили ни под одну из этих привилегированных категорий, мы легко смирились с отказом - отогретые в теплом вестибюле мозги уже успели нашептать нам, что денег на гостиничный номер все равно нет. Зато, наивно решили мы, можно отлично выспаться в глубоких уютных креслах, привольно расставленных по просторному вестибюлю.
Но не тут-то было! Не успели мы устроиться поудобнее в кожаных объятиях кресел, как явился рослый милиционер и предложил нам немедленно пройти. Мы объяснили, что идти нам некуда, и предъявили паспорта с подлинной подмосковной пропиской, требуя убедиться. Он убедился, но не смягчился.
- Не положено, - однозначно бубнил он. - Придется пройти.
- А если мы не уйдем? - спросил Саша.
- Тогда я заберу вас в милицию, - ответил он без всякой враждебности. Может быть, ему даже было нас жалко - ведь мы не были нарушители, у нас все было в порядке, в паспортах стояла прописка и запись о регистрации брака.
Мы переглянулись и единогласно решили, что лучше ночевать в милиции, чем на снегу. Жаль только, что ночь в милиции оказалась не такой романтичной, какой она могла бы представляться молодым любителям острых ситуаций. Нас никто не бил и не унижал - просто сонный дежурный лениво составил протокол о незаконном пребывании в гостиничном вестибюле, который даже для него, похоже, звучал неубедительно. А потом нас хотели отпустить на все четыре стороны, но мы уперлись и наотрез отказались покидать не слишком теплое, но все же не ледяное помещение районного отделения. В конце концов, дежурный над нами сжалился и позволил до шести утра сидеть на жесткой деревянной скамье, тянувшейся вдоль одной из стен, густо крашеных бурой масляной краской.
Заснуть нам не удалось - не только потому, что в комнате все же было недостаточно тепло, но и потому, что всю ночь перед нами маячила пьяная проститутка, удивительно подходящая под типичное описание наихудших представительниц ее профессии. Немолодая, грязная, грубо размалеванная каким-то несусветным гримом, она без устали металась из угла в угол, хрипло распевая один и тот же куплет:
Когда мать меня рожала,
Вся милиция дрожала,
Прокурор ворчал сердито:
Родила опять бандита!
Главным чувством, занимавшим меня в ту бессонную ночь, было горькое недоумение - как Даниэли могли выгнать нас на улицу, понимая, что нам некуда деться? Я ведь не знала, что, выставивши нас, они вкупе с Синявскими плели нити одного из самых взрывчатых заговоров, потрясших основы советского режима.
Наша близкая дружба с Синявскими началась гораздо позже, году в 61-м, после того как Юлик прочел нам рукопись своей повести "Говорит Москва" - о дне открытых убийств. Он тогда был в творческом восторге, и ему хотелось поделиться - не только повестью, но и тем, что ее собираются опубликовать за границей. А месяца через два-три он уже показывал нам вышедшую за границей книгу.
Вскорости после этого он прочел нам повесть Абрама Терца "Суд идет". Когда он читал, Воронель вдруг сказал: "Я знаю, кто это написал. Это написал Синявский..."
Юлик был страшно удивлен. Он рассказал об этом Андрею, и тот пригласил нас к себе. Так у нас началась отдельная дружба с Синявским, который стал читать нам другие свои повести и давать серьезную литературу, издаваемую в Париже: Л.Шестова, Г.Федотова, С.Булгакова, "Вехи"...
Кроме того, произошло еще одно событие - мы переехали в Хлебный переулок. А Синявские тоже жили в Хлебном, через пару домов от нас. Поэтому мы стали к ним забегать по соседству.
В ту пору по рукам еще не ходила подпольная литература. Не было еще "самиздата" - советская интеллигенция только-только начала пробуждаться от кошмара сталинского режима, и все ей было страшно. Кто-то очень дерзкий пустил по рукам неопубликованные стихи Пастернака, Мандельштама и Цветаевой, - это была первая проба. Но то явление, что потом получило имя "самиздат", еще не родилось. И на этом фоне появление произведений, написанных нашими современниками о нашем времени, как бы переворачивало всю нашу жизнь. Ведь это время никем никогда еще не было описано так правдиво и страшно.
Тогда это все было для нас откровением, чудом - то, о чем все думают втайне, написано открытым текстом! Впервые свободное слово! Это был первый литературный документ о том, что произошло в России и с Россией. Воронеля поразило, что в повести "Суд идет" каким-то образом была угадана его личная история: там ведь описан юношеский кружок марксистов-заговорщиков, посаженных в тюрьму за свои романтические идеи. Ему казалось, что это его личная тайна, которую никто не мог знать. Он хранил эту тайну двадцать лет, а оказалось, что были и другие, меченные той же меткой.
А теперь у нас появилась новая тайна - хоть и не наша лично, но наша личная тайна: мы знали, кто такой неуловимый Абрам Терц. Глухие упоминания о нем уже стали появляться в теряющей девственность советской печати. Но власти еще не знали, кто это, а мы - МЫ! - знали! Ужас и восторг, восторг и ужас!
И все же мы были еще достаточно молоды, чтобы порой быть беспечными даже в присутствии столь грозной опасности. Помню, как однажды Лариса, работавшая в Институте лингвистики, принесла домой научное заключение, что в русском языке существует всего девять корневых матерных слов. В доме Даниэлей шли какие-то очередные посиделки, на которых присутствовал почти весь цвет российской диссидентской филологии. Сообщение Ларисы всех поразило, хоть реакция была неоднозначная - одни говорили: "Как, всего девять?", а другие: "Неужто целых девять? Быть не может!" В результате был объявлен конкурс - кто найдет максимальное количество этих матерных корней. Все с восторгом ринулись на поиски - и будущие жертвы нашумевшего процесса, и их сообщники, тоже впоследствии довольно жестоко покаранные властями. До девяти не дошел никто, зато я могу гордо похвастаться, что заняла на этом конкурсе первое место, набравши в своем списке восемь к великой зависти грядущих знаменитостей.
Однако советская власть не дремала - как видно, она-то знала все девять матерных корней и потому успешно шла по следу нарушителей многолетнего приказа "сор из избы не выносить".
Шаги преследователей звучали все ближе и ближе. В первом номере журнала "Иностранная литература" за 1962 год появилась статья Б.Рюрикова, в которой бросался в глаза такой абзац:
"Как-то в зимний день холодные волны Сены выбросили на берег нечто непривлекательное и дурно пахнущее. Нашлись, однако, добрые люди, которые подобрали это "нечто" и даже набрались решимости выставить его на всеобщее обозрение. Так в журнале "Эспри" появилась статья "О социалистическом реализме"... Редакция сообщила, что статья написана молодым советским писателем, "естественно", сохраняющим в тайне свое имя... Кстати, еще об одном инкогнито. Не только журнал "Эспри" оказался падок на отбросы. В прошлом году в Англии и Франции вышел роман "из советской жизни" под названием "Суд идет". Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. Даже из сочувственного изложения ясно, что перед нами неумная антисоветская фальшивка, рассчитанная на не очень взыскательного читателя... Ратующие против социалистического реализма эстетствующие рыцари "холодной войны" - к какой достоверности, к какой правде тянут они?.."
Это было в каком-то смысле утешительно - значит, искать-то ищут, но еще не нашли. Настоящие тревожные звоночки прозвучали, я думаю, где-то в конце 63-го года, в декабре, когда Сережа проговорился на вечере у Елены Михайловны Закс. Там были обыкновенные светские посиделки, и кто-то из гостей стал пересказывать повесть Николая Аржака "Говорит Москва", которую передавала радиостанция "Свобода". Присутствующие, затаив дыхание, слушали страшную сказку про день открытых убийств, как вдруг Сережа вскочил и закричал отчаянно громко: "Да это же сюжет, который я когда-то подбросил Юльке!"
Конечно, Юлику об этом сообщили без промедления, и он был смертельно обижен на Сережу - как тот мог при чужих позволить себе такую откровенность? Теперь, когда я хорошо познакомилась с писательскими амбициями, я уже не знаю точно, что больше поразило Юлика - опасность разоблачения или притязания Сережи на сюжет повести, и впрямь весьма остроумный. И что толкнуло Сережу на этот выкрик - уж не собственническое ли чувство по поводу присвоенного другом сюжета? Тем более что от него скрыли не только факт публикации повести за рубежом, но и сам факт ее написания. Но как бы то ни было, именно тогда между Юликом и Сережей пролегла первая трещина.
А потом, примерно за год до ареста, от Юлика ушла Лариса. И как-то все сразу изменилось. Хоть богемный водоворот как бы продолжал свое круженье, но веселье стало выглядеть фальшиво и даже стихи стали звучать приглушенней. Я привела как-то в дом Юлика живущую сейчас в Израиле поэтессу Ренату Муху, по-нашему - Рэночку. Юлик уже жил не в клоповнике в Армянском переулке, а в двухкомнатной сплотке, впадающей в затоптанный коридор другой коммунальной квартиры - на Ленинском проспекте. Мы с Рэночкой отворили незапертую входную дверь и вошли почти на цыпочках, удивляясь стоящей вокруг тишине. Начинались долгие летние сумерки, и в комнатах было пусто и полутемно. Наконец, обнаружили Юлика - натянув на голову одеяло, он лежал на тахте в дальней комнатушке. Долго-долго никто из предполагаемых гостей не приходил, и бедная Рэночка слонялась по неприбранной квартире, громко вопрошая у оклеенных бутылочными этикетками стен, когда же начнется знаменитое гостевание, о котором она была столько наслышана.
Но гостевание уже было не то и сам Юлик не тот. С ним приключилась странная перемена. Забыв всякую осторожность, он начал читать свои повести направо и налево, кому угодно, любой случайной женщине. И стало ясно, что уже недалеко до беды. А вскоре грянул арест...
Из "Белой книги":
"18 октября газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что советский литературный критик и ученый Андрей Синявский арестован за то, что опубликовал за границей труды под псевдонимом Абрам Терц... Если Синявский действительно Терц, Советам нелегко будет "стереть" его имя, так как Синявский - признанный и широко публиковавшийся литературный критик. Главная работа Синявского - это книга объемом в 441 страницу, "Поэзия первых лет революции", написанная вместе с А.Меньшутиным... С 1959 года Синявский часто появляется в качестве обозревателя и эссеиста в ведущем советском либеральном ежемесячнике "Новый мир", где он написал несколько довольно желчных обзоров о казенных работах социалистического реализма... Синявский является также автором (совместно с искусствоведом И.Голомштоком) первого за долгие годы в Советском Союзе серьезного исследования о Пикассо".
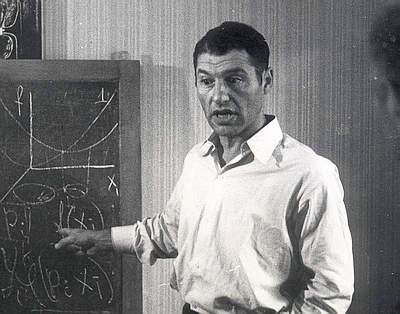
Теперь я хочу дать слово Саше, он об этом расскажет лучше:
"День, когда Юлика и Андрея арестовали, я помню очень хорошо, потому что меня в тот день арестовали тоже. Я перебирался тогда в Дубну, и поскольку я перебирался с целой лабораторией, я вел постоянную торговлю с начальством. В тот день, 9 сентября, меня как раз вызвал директор дубненского института, в связи с какими-то очередными затруднениями. По выходе из его кабинета меня пригласили зайти в спецотдел. В спецотделе ожидал человек, который сказал, что он из КГБ и что мне придется отправиться с ним в Москву. Для дачи показаний. Каких показаний - не сказал.
- Это мы вам скажем в Москве.
- Может быть, все-таки здесь?
- Нет, только в Москве...
У меня не было в этот момент никаких конкретных предположений, но поскольку я уже с четырнадцати лет был человеком неполной лояльности, то всегда был готов к чему-то подобному. Я только спросил: может быть, я могу поехать на своей машине? Он сказал - нет, нельзя, поедете со мной. Не знаю, намекал ли он, что обратно я не поеду, но я, во всяком случае, подумал: может, я уже обратно и не поеду! Поэтому я заявил: "Я должен обязательно зайти домой". Они сказали: "Прекрасно, мы сейчас отвезем вас домой, только давайте договоримся - вы ничего не говорите своим родным..." Они подвезли меня к дому и деликатно остались в стороне, а я целовался с мамой так долго, что успел ей прошептать на ухо: "Мамочка, меня вызывают в КГБ".
Допрос, в сущности, начался уже в машине - они спросили, кого мы называли "бородой", и кто в нашем кругу любит петь песню "Абрашка Терц, он жулик всем известный..." А Андрей действительно обожал эту песню. И я понял, что речь идет о Юлике и Андрее. Но мои спутники мне этого не сказали прямо, они лишь игриво так подступали: "Вы, конечно, догадываетесь, почему мы вас вызвали?" Такой стандартный зачин. Они надеются, что в этом случае человек скажет больше, чем если спросить прямо. Формальный допрос начался только на Лубянке. Мы вошли через внутренний подъезд, поднялись по небольшой лестнице, мой сопровождающий бросил дежурному: "Этот - со мной", - и мы пошли по длинным канцелярским коридорам, голым, давно не крашенным, как в обычном бюрократическом учреждении.
Меня привели в кабинет, довольно бедный, и все началось с того, что сопровождающий сказал: "Минуточку", - и вышел, оставив меня одного. В расчете, что я буду волноваться, а они будут подглядывать за мной через специальное окошечко и ждать, когда я буду "готов". А я решил "Фига вам!", достал из кармана какую-то книжку и начал делать вид, что увлеченно перелистываю страницы. Я, видимо, так удачно симулировал, что мой офицер тут же вбежал обратно, делая вид, что запыхался. И стал задавать вопросы. Странно - ведь страшно было очень, но у меня не было никакого искушения "расколоться". Мне это просто не приходило в голову. Раз мы договорились с друзьями, что "нет" - значит, "нет". Поэтому, что бы мой следователь ни спрашивал, я отвечал: не читал, не видел, не знаю. При этом я внимательно смотрел на стол - а на столе лежали копии знакомых рукописей и экземпляры изданных за границей книг Андрея и Юлика. Он тем временем спрашивал: "Что представляют собой ваши друзья Синявский и Даниэль?" Я отвечал: "Мои друзья замечательные люди..."
Впрочем, я старался не завираться, я не говорил, что они так уж особенно любят советскую власть. Просто утверждал, что они абсолютно лояльны и не интересуются политикой. Что вообще-то было верно - политикой, в настоящем смысле, они не интересовались. А он все нажимал: "Не имеет смысла запираться, они уже сами признались, на них уже дали показания..."
Я должен признаться, что для меня это было сильное переживание. Ведь прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как я побывал в тюрьме, и за это время я привык к воле. В сущности, я до самого конца допроса не был уверен, что выйду из Лубянки. И поэтому, когда меня, в конце концов, отпустили (это было через несколько часов), у меня было сначала ощущение, будто я лечу. А потом, почти сразу, появилась мысль, что нужно предупредить Юлика. Я, конечно, понимал, что у них на квартире, вероятно, устроили засаду и что я лезу в верную петлю, но не попытаться предупредить его я не мог - я бы себе потом этого не простил. Телефона у них тогда не было, мне пришлось туда поехать. Квартира была закрыта. И когда ключ, который у меня был, почему-то не вошел в замок, - вот тогда меня охватил настоящий ужас.
Гэбэшники, конечно, уже побывали на квартире Даниэлей. Поэтому замок и не открывался. Но потом, когда Ларису привезли с аэродрома, его уже, видимо, "починили", потому что у нее ключ повернулся совершенно свободно. Это было через два дня. Ларису привезли в Москву вместе с Юликом, но Юлика прямо с самолета повезли на допрос, а ей сказали, что он скоро вернется. Она ждали его до двух, а в два побежала звонить. Ей сказали, что Юлик задерживается, но в пять обязательно будет. Потом она позвонила в пять, и ответили: "Сейчас, сейчас..." После этого, где-то в начале шестого, явился милиционер. А Юлик уже не вернулся...
Тогда я ничего этого, конечно, не знал. Не застав Юлика, я бросился на переговорную - звонить Неле, которая в то время была в Харькове, у больной матери. Позже московские соседи рассказывали, что к нам на Хлебный приходил "какой-то майор" и спрашивал Нелю. Но до Харькова они добраться не успели".
Саша позвонил мне среди ночи и сказал: "Ты должна завтра же выехать в Москву!" Я возразила, что только накануне забрала маму из больницы, а он ответил: "Придумай что угодно и завтра же возвращайся в Москву". И объяснил: "Юлик тяжело заболел и лежит в больнице, и Андрей - тоже". Он боялся, что меня вызовут в харьковский КГБ, а Харьков - это не Москва, там руки-ноги поломать могут.
Мы вдруг ощутили тогда, что арест Синявского и Даниэля - это начало чего-то страшного и что мы - все! - можем последовать за ними. Что это - наша судьба. Поэтому мы сопротивлялись.
Но, кроме того, у нас было ощущение, что мы можем остановить этот процесс. Не только не пойти по этапу вслед за ними, но даже их самих вытащить. Мы вообразили, что если сумеем настоять, сумеем сплотить свою группу - ученых, интеллигентов - то, может быть, наше противостояние остановит необратимое сползание к сталинизму. Мы были уверены, что начинается возврат к сталинизму.
Нормальная реакция шестидесятников, этакое двойное восприятие реальности - с одной стороны, подспудный страх, глубинное недоверие к властям, с другой - неоправданно большие надежды.
В кругах литературной интеллигенции, среди которой мы тогда крутились, мнения после ареста Синявского и Даниэля резко разделились. Самые молодые, как мы, бросились на защиту. Но это были, в основном, просто близкие друзья, и их было очень немного. А главная масса той интеллигенции, которая называла себя "прогрессивной", пришла в состояние чудовищной паники. Был 65-й год. От 52-го нас отделяло очень короткое расстояние: все еще помнили, как было тогда, и страх воцарился невообразимый.
Ведь только-только было время оттепели, брожения мысли, почти свободы. И вдруг - арест. Поначалу все были в оцепенении. Но очень скоро поднялся общий, довольно стройный, крик: "Подлецы! Негодяи! Прославиться захотели! А нам все испортили! Ведь мы уже почти всего добились, завтра была бы уже настоящая оттепель, а теперь из-за них все зарубят! Мы подвели под советскую власть такой глубокий подкоп! Мы Кафку пробили - что может быть для нее страшней?" Одна переводчица, почти рыдая, тыкала нам под нос какую-то фразу из своего перевода: "Видите, какую фразу я написала? А из-за этого дерьма нам все закроют! Мы были так близко от цели, завтра бы все хлынуло, у нас бы стала настоящая свобода. А эти гады написали свое дерьмо, выставиться хотели - кому это нужно? Все погубили, все достижения советской интеллигенции пошли прахом!"
Многих обижало, что Синявский и Даниэль, будучи, на их вкус, недостаточно антисоветскими писателями, как бы выхватили у них, более антисоветских, пальму первенства. Один поэт, он сейчас в эмиграции, кричал: "Чего вдруг я буду за них заступаться? Уж пишут за границу, так сказали бы все начистоту. Я вот поэму против Сталина написал, но не напечатал, других подводить не хотел. Потому что мы шли единым фронтом, мы "их" уже почти свалили, а Синявский с Даниэлем, суки, все испортили!"
Ведь тогда советской либеральной интеллигенции казалось, что она, дружно взявшись за ручки, шла мелким демократическим зигзагом на штурм тоталитарной системы. И ей верилось, что победа близка, и в России вот-вот настанет свобода слова. А эти "выродки", Синявский и Даниэль, в свободу слова не верили, в общем штурме не участвовали, а туннельным эффектом вылезли за рубеж и напечатались. И теперь советская власть под этим предлогом может закрыть всю лавочку. К сожалению, при критических обстоятельствах, либералы, как это часто бывает, ополчились не против жесткого цензурного режима, а против тех "мерзавцев", которые вызвали на себя огонь властей.
До процесса мы не знали, чего можно от этих властей ожидать. С одной стороны, мы допускали даже, что наших друзей могут расстрелять. Мы ведь помнили недавние сталинские времена. А с другой стороны, нам казалось не исключенным, что их как-нибудь символически осудят и выпустят, потому что уже несколько лет не было серьезных политических преследований. Особенно в случае международной огласки. Поэтому мы сначала старались сделать все возможное, чтобы приостановить суд или смягчить возможный приговор. Мы писали заявления в судебные инстанции и ходили на прием к Верховному судье Смирнову с требованием выпустить Андрея и Юлика на поруки.
Но когда стало ясно, что суда не миновать, мы решили, по крайней мере, зафиксировать протоколы процесса, - мы уже начинали предвосхищать его историческое значение. Ведь в СССР процессы такого рода шли за закрытой дверью, публику на них не допускали. Мы несколько раз ходили в Верховный суд, требовали, чтобы нам позволили присутствовать на процессе, в чем нам было, конечно, отказано - в зал суда впускали только жен.
Воронель с покойным Толей Якобсоном набивались в свидетели защиты - они подали заявления, заполнили анкеты, а в назначенный день Саша даже сходил в парикмахерскую и надел белую заграничную рубашечку с плеча Синявского - собственной столь шикарной у него не было, хоть был он уже профессором физики. Но даже и рубашечка не помогла: в последнюю минуту ему отказали, ибо суд в свидетелях защиты не нуждался, он довольствовался свидетелями обвинения.
Когда мы поняли, что никакого легального пути к гласности у нас нет, мы решили запротоколировать процесс. Мы купили десятки записных книжек и снабжали ими Ларису Даниэль. На каждое очередное заседание она входила в зал суда с одной книжкой, записывала все, что успевала, а в перерыве заходила в женский туалет, где ее уже поджидал кто-нибудь из троих - Саша, Марк Азбель или Эмиль Любошиц. Проникнуть в здание суда было непросто, но кто-нибудь из них каждый раз ухитрялся это сделать.
Они нагло заходили в женский туалет и обменивались с Ларисой книжечками - она отдавала исписанную и получала чистую. Выйти из здания суда она не могла: ее бы не пустили обратно, а носить с собой стопку записных книжек было опасно, могли бы забрать, - потому мы и спешили эту книжку с записями поскорей вынести из здания суда. Лариса работала, как машина, - она записывала все мельчайшие подробности.
Вечером Лариса приходила к нам домой и начинала рассказывать подробности. У нее было такое эмоциональное состояние, что она все время хотела рассказывать о процессе, а десятки людей жаждали ее слушать, но наш узкий кружок знал, что ее рассказ одновременно выполняет другую функцию. Хотя она как раз и не подозревала, что рассказывает для отвода глаз. Мы к тому времени уже не сомневались, что наша комната прослушивается КГБ: техники, которые устанавливали магнитофоны в потолке, не очень-то таились. Поэтому Саша постарался сосредоточить все внимание КГБ на нашей квартире, а я в это время уходила с Ларкиными записными книжками из дому и всю ночь расшифровывала их вместе с Леней Невлером в его квартире.
Лариса не знала стенографии и поэтому писала сокращенно: "ск". вместо "сказал", "св. вл". вместо "советская власть" и т.д., чтобы успеть записать, пока говорят. Она записывала каждое слово, но все - сокращенно. Охрана видела, что она пишет, но ее почему-то никто не останавливал.
В первый день записывал еще один человек - наш ленинградский друг, писатель Борис Вахтин, который получил доступ на процесс от Союза писателей. Но уже на второй день он уехал обратно в Ленинград. Он тоже был замечательный писатель, но считал, что печататься за границей - неправильно, нужно добиваться этого внутри, в СССР. Он умер, к сожалению, так и не став известным читателю в СССР - тому, ради которого он совершил это литературное самоубийство.
Его этот процесс потряс. Он говорил нам потом, что с трудом удерживался в зале от замечаний, за которые его бы вывели. Интересно, что почти накануне ареста мы приносили Синявскому повесть Вахтина в рукописи, и Андрей страшно им восхищался. А теперь Борис сидел среди публики, состоявшей в основном из сотрудников КГБ и встречавшей взрывами веселого хохота всякое унижение писателей, попавших на скамью подсудимых только за свою профессиональную работу. Ту самую, за которую он сам был бы готов сесть на скамью подсудимых.
В течение всего процесса мы с Леней работали над расшифровкой Ларисиных записей каждую ночь напролет, с вечера до утра. Перепечатывать не было никакой возможности, писать приходилось рукой, у меня потом долго болело плечо и пальцы не гнулись. Делать это было страшно - никто ведь не знал, как за это могут наказать, прецедента еще не было, все было в первый раз. В результате этой работы была создана черновая рукопись протокола заседаний процесса, составившая главную часть знаменитой "Белой книги", за публикацию которой, в сущности, Александр Гинзбург потом отсидел пять лет.передачи за границу.
Формально Гинзбург вместе с Галансковым получил свои пять лет за создание самиздатского литературного журнала "Феникс", но жестокий приговор, конечно, был связан с составлением им "Белой книги" - обстановка за границей, а отчасти и внутри СССР, была такова, что власти не решались прямо поставить ему в вину публикацию достоверных фактов.
Мне хочется сказать несколько слов о нашей комнате в Хлебном переулке, 19, которая была во время процесса главным штабом сопротивления. Дело в том, что это была не простая комната, а историческая.
Внешне она была не примечательна ничем, кроме уродства и географического положения: через пять домов направо в номере 9 жили Синявские, за одним углом находился ЦДЛ - Дом литераторов, за другим ЦДК - Дом Кино, в двух кварталах налево по улице Воровского - Верховный суд РСФСР, где заседал судья Л.Смирнов, в двух кварталах направо - зал суда, где проходил процесс.
И потому неудивительно, что эта комната превратилась в дни процесса в штаб организованного сопротивления советской интеллигенции, невзирая на яростное возмущение трех законопослушных соседских семей, которые настолько единодушно сплотились против нас, что даже временно прекратили военные действия друг против друга.
Всю неделю процесса каждое утро в восемь пятнадцать утра Лариса и Марья приходили к нам позавтракать и обсудить программу предстоящего дня сражений. Без четверти девять мы убегали - кто сидеть в зале суда, кто пробираться в его коридоры, кто - стоять на морозе под дверью, демонстрируя властям свое с ними несогласие. В комнате мы оставляли связного, готового долгие часы сидеть в одиночестве и отвечать на бесчисленные телефонные звонки, тем более что соседи, раздраженные непрерывным трезвоном, демонстративно перестали подходить к телефону. Чаще всего это делал один из наших многочисленных друзей-ученых, ныне профессор математики Тель-Авивского университета, который был в те времена довольно увесист, и ему было невыносимо многочасовое стояние под дверью суда. Услышав звонок телефона, висящего в дальнем конце длинного коридора, он, сломя голову, по-слоновьи топал к нему, сбивая по пути соседей, всегда, как нарочно, идущих навстречу - кто с кипящим чайником, кто с раскаленной сковородой.
Наших отношений с соседями это не улучшало, но мы давно уже махнули на это рукой. И потому мы без зазрения совести по вечерам впускали к себе всех желающих послушать отчет Ларисы о прошедшем заседании суда. Мы впускали всех: это было важно и для гласности, и для отвода глаз, так как главную нашу задачу - протокольную запись процесса - мы выполняли в другом месте. Желающих было много: приходили друзья, сочувствующие и, разумеется, стукачи. Так что комната наша каждый вечер заполнялась до отказа: наиболее удачливые сидели на стульях, на полу и на подоконнике, остальные стояли, прислонясь к стенам и к дверному косяку.
Я не стала бы так подробно описывать эту уродливую комнату в Хлебном переулке, 19, узкую и длинную, как пенал, если бы не прочла недавно детальное описание ее в книге Берберовой "Железная женщина", посвященной знаменитой Муре Будберг, неофициальной жене М.Горького и возлюбленной английского посла-заговорщика Д.Локкарта. Конечно, я, как и все, проходила в школе историю "заговора Локкарта", пытавшегося вместе с асом шпионского искусства Сиднеем Рейли совершить антисоветский переворот в голодной Москве 1918 года. Но мне и в самом фантастическом сне не могло присниться, что Локкарт снимал для своей миссии квартиру на последнем этаже угрюмого дома 19 в Хлебном переулке!
Я смутно могла представить себе резиденцию английского посла: этакий уютный особняк в одном из Арбатских переулков, с псевдогреческим портиком, через застекленную дверь которого с бронзовым молоточком вместо звонка проскальзывал к Локкарту неуловимый Сидней Рейли, чтобы обсудить последние детали исторического заговора. Но чтобы в моей квартире!
Берберова приводит цитату из книги коменданта Кремля, руководившего арестом Локкарта, где тот пространно рассказывает, как Мура долго препиралась с ним через закрытую дверь, - Господи, сколько раз я отпирала эту дверь почти полвека спустя! Ворвавшись, наконец, в квартиру, чекисты протопали по длинному коридору, по которому полвека спустя наш толстый друг бегал к телефону, и открыли дверь моей комнаты, служившей в те давние времена спальней Локкарту, а точнее, ему и Муре. Локкарт спал на тахте у окна, мы тоже там спали, так как это было единственное место, пригодное для тахты - впрочем, у нас тахта была другая, мы не получили ее по наследству вместе с комнатой.
Дверь напротив тахты вела в посольский кабинет, большую квадратную комнату с двумя окнами. В наше время бывший посольский кабинет занимала рабочая семья из шести человек, сокровенные подробности из жизни которой не могла утаить от нас тонкая прослойка оклеенной обоями двери, так же как не могла она утаить от них наших крамольных разговоров.
Как бы порадовался любитель российской истории Абрам Терц-Синявский, знай он, что история эта по его милости второй раз проходила через нашу комнату!
Эта комната была свидетельницей и комических эпизодов, а не только драматических. Однажды, вскоре после ареста Юлика и Андрея, мы ожидали прихода Марьи и Ларисы, чтобы заняться вместе с ними какими-то общественно важными делами. Они, как обычно, опаздывали, и я стала с восторгом рассказывать Саше, что в магазинах появились замечательные шерстяные колготки - настоящее спасение в московском климате. Стоили они 12 рублей штука, и Саша сурово объявил мне, что мы не имеем права тратить деньги на всякую дамскую ерунду, когда наши боевые подруги нуждаются в каждой копейке. Я, глотая слезы, вынуждена была согласиться с его суровой мужской логикой. Раздался звонок, и в комнату ввалились боевые подруги, раскрасневшиеся и слишком веселые для безутешных соломенных вдов.
"А что мы сейчас купили!" - хором воскликнули они и дружным слаженным движением задрали юбки. На них переливались изящным узором недоступные мне шерстяные колготки.
Я молча посмотрела на Сашу - ни слова не говоря, он сунул руку в заветный карман, где лежала его зарплата, предназначенная для борьбы, и выдал мне запретные 12 рублей.
Наконец наступил день вынесения приговора. Я помню - его вынесли очень поздно вечером, мы стояли толпой у подъезда суда; вернее, было две толпы - друзей и гэбэшников в одинаковых зимних шапках, которые им выдали по случаю мороза. А мороз был ужасный, и какие-то женщины, услыхав приговор, стали плакать в голос: "Ужас! - рыдали они. - Пять и семь лет лагерей!" А я не могла поверить: Боже, какое счастье, их не расстреляли!
Ко времени процесса в широких интеллигентских кругах успела произойти переоценка взглядов. Теперь Синявского и Даниэля никто уже не ругал, ими восхищались. И мы уже ощутили наше "мы", то есть что мы - группа: к суду приходили десятки людей, часто не знакомых ни с кем. Сразу после процесса начал стремительно меняться состав друзей. Из узкой кучки родилось движение, которое потом получило имя демократического. Оно состояло уже не только из друзей, даже не столько из друзей, сколько из друзей по борьбе, так сказать - соратников. У старых друзей это вызывало иногда горькое чувство заброшенности.
Новых соратников появилось так много, что когда через два с половиной года мы собрались в опустевшей квартире Даниэлей, чтобы отметить день рождения Юлика, мы вдруг почувствовали себя потерянными в огромной толпе малознакомых людей, для которых Юлик был не живым человеком, а условным символом, даже идолом. Я помню, как Тошка Якобсон позвал: "Братцы, старые друзья, пошли на кухню, помянем попросту Юльку! А то, я вижу, здесь уже собрался съезд Демократического движения".
Ларисы в тот вечер в квартире не было, она уже была выслана в Сибирь за то, что в августе 1968-го организовала на Красной площади демонстрацию протеста против вторжения в Чехословакию.
Процесс перевернул всю ее жизнь. Ей была навязана процессом не вполне подходящая ей роль "верной подруги" Даниэля, и она отдала этой роли много сил. Она сделала больше, чем могла бы сделать любая другая женщина для своего бывшего мужа. Однако эта неестественная роль тяготила ее, а рамки, в которые старые друзья хотели бы ее запихнуть, были ей слишком узки. После процесса она стремилась вырваться и вырвалась - на простор демократической деятельности, куда не все друзья готовы были за ней следовать. Она сама превратилась в лидера и завела новых друзей, которые соответствовали этой ее новой жизни. Но это не обошлось без ссор, драматических скандалов, взаимных обид. Так как Марья Синявская тогда, напротив, исполняла скромную - тоже очень ей несвойственную - роль преданной, на все готовой для своего мужа женщины, раскол пролег именно между ними. Два человека с разных сторон - И.Голомшток и Саша - долгое время пытались сгладить фундаментальное противоречие между двумя группами. Друзья Ларисы, увлекшись своей общественной ролью, несправедливо и жестоко поступали с Марьей. Я и сейчас не могу понять, как они могли тогда, в ее положении, подвергнуть ее такому незаслуженному остракизму. Этот случай был для нас с Сашей последней каплей, заставившей принять сторону Марьи - а это непросто, принять сторону Марьи, ни одна черта ее характера к этому не располагает - и отойти от диссидентской группы.
Пока речь шла о защите друзей, у всех у нас без исключения, даже у тех, кто чрезмерно упивался собственной ролью, не было сомнения, что дело это чистое. Но со временем Сашу все острее мучило ощущение, что мы переходим какую-то запретную черту и слишком близко подходим к бесовщине. Это чувство особенно укрепилось, когда ему на традиционных именинах Юлика за год до описанного выше случая довелось встретиться с П.Якиром и В.Красиным. Мрачный, хмуро-озабоченный Красин с карикатурно громадным портфелем и полупьяный (всегда полупьяный, когда не пьяный) Якир вызвали у него не только желание самому избежать любых контактов с ними, но и отвадить сына Даниэля - Саню - от общения с этими персонажами Достоевского.
Мы знали Саню с самого нежного детства - он бегал на лыжах с нашим сыном Володей, обсуждал с нами философские проблемы и однажды, глядя на Сашу огромными прозрачными серыми глазами, попросил: "Дядя Саша, составьте мне, пожалуйста, список вопросов, которые наука еще не решила, чтобы я знал, о чем мне думать..." Но его втянула возникшая вокруг его родителей общественная воронка, не давшая ему ни доучиться, ни осознать себя самостоятельным, отдельным человеком, выбирающим свой собственный путь. Воронель потратил уйму времени, убеждая Саню, что ничего серьезного не содержится в разглагольствованиях Якира, и что мальчику в семнадцать лет лучше заняться чем-нибудь другим. Но кто из семнадцатилетних когда-нибудь внимал разумным речам? Его жизнь сложилась не так, как планировалась, но кто может сегодня сказать, что он ее проиграл? Жаль, конечно, что он не решил всех нерешенных вопросов науки, но ведь не из-за пьянки или по лени, а ради благородного дела!
Не так просто отделить историю от тех, кто ее творит, как бы незначителен ни был каждый из них. Как-то, когда после ареста Андрея и Юлика была демонстрация у памятника Пушкину, - первая в Союзе политическая демонстрация, - и оперативники КГБ стали швырять ее участников в подъехавшие воронки. Глядя на это из подворотни, где она пряталась, чтобы не скомпрометировать демонстрантов своим одиозным участием, одна наша знакомая воскликнула: "Боже! Как бы я уважала этих людей, если бы я их не знала так хорошо!"
Но ведь они это уважение заслужили! А ее "знание" - это деталь ее биографии. И как прекрасно, что нашлись люди, - какие бы интимные подробности мы об этих людях ни знали - которые вышли протестовать против оккупации Чехословакии, в защиту свободы. Они сделали честь своей стране! Ужасной, несчастной стране, где все молчали и никто не протестовал! По крайней мере, стало не так за нее стыдно! В этом был жест необыкновенный! И он всколыхнул весь мир - тогда мир еще можно было всколыхнуть благородным жестом.
Я думаю, что Сашино отталкивание от нарастающего Демократического движения уже тогда имело более глубокий смысл, чем простое неприятие некоторых его участников. Похоже, Саша подсознательно уже начал ощущать, что это не его чашка чая. При всем его фокстерьерстве и готовности участвовать в самых отчаянных предприятиях Ларкины авантюры начали его отталкивать. И от этого расхождения между его общественным темпераментом, с одной стороны, и нежеланием участвовать в русском демократическом движении, с другой, он впал в ужасную депрессию. Может, он чувствовал, что это безнадежное дело, а может - начинал прозревать, что это не его борьба. Он сформулировал это только к моменту написания книги "Трепет забот иудейских". А сначала он просто потерял покой и буквально стал сходить с ума, покрылся какой-то отвратной сыпью и лег на диван лицом к стене, отказываясь вставать, есть, разговаривать. Пока, наконец, где-то к концу 69-го не сел писать книгу, пытаясь разобраться в себе самом. И все яснее понимая, что ему не по пути с группой Ларисы, и что Россия - не то место, где мы, евреи, должны прилагать свои силы. Лариса впоследствии решила это противоречие, принявши крещение, но мне такой вариант судьбы никогда не казался ни благородным, ни привлекательным.
Кто из нас прав - рассудит история, но одно можно сказать наверняка: то, что случилось с нами после процесса Синявского-Даниэля, в значительной степени было этим процессом стимулировано, - и наше возвращение к еврейству, и наше отчуждение от России. Вот что говорит об этом Саша:
"Своим сионизмом я тоже в какой-то степени обязан Синявскому. Его русская культура была гораздо выше нашей. Что ни говори, наша культура была нахватанной культурой разночинцев, способных все принять и все отвергнуть на основе чисто рациональных критериев, без всякой оглядки на традицию. Да и традицию мы могли выбирать по произволу, не помня родства. Именно Андрей показал мне, что культура может быть подлинной, только если она глубоко укоренена. А происхождение свое и веру не выбирают. Андрей был филосемит, я не ощущал в нем никаких признаков недоброжелательства, и, тем не менее, он ясно давал почувствовать, что еврей может существовать в культуре только в том случае, если он твердо ощущает себя евреем. Быть русским я с ним не мог. Это не значит, что на евреев он смотрел свысока - наоборот, за нами он полагал наследие еще более древнее, и этим еще тогда провоцировал нас - во всяком случае, меня - на сионизм. Потому что в его лице я, будучи еще очень молодым, впервые встретил человека глубокой и укорененной культуры. И понял, что у меня есть культурная перспектива только в том случае, если и я четко осознаю свои корни. То есть свое еврейство.
Синявский, в отличие от многих из нас, - был как раз человеком с корнями, он никогда не забывал о своем дворянском происхождении, всегда подчеркивал, что у него есть наследие. Он принадлежал к тому слою русских интеллигентов, которые серьезно думают о судьбах своей страны, хоть всегда стоял в стороне от всяких общественных дел. Он ощущал свое призвание и самоценность. Даже ведущим советским критикам и литераторам льстило знакомство с ним. И ему нравилось быть двуликим - в нем жил и ведущий советский литературовед Андрей Синявский, и потаенный, издевающийся осквернитель святынь Абрашка Терц*.
Потому что он был скрытый игрок, - ему нравилось, что он водит за нос советскую власть, которая никак не может его поймать. Не может, хоть из кожи лезет - ловит.
Благодаря этой ловле он острее чувствовал свою значительность. Я помню, как циничная Марья сказала Игорю Голомштоку, намылившемуся уехать из СССР:
"Ну кому вы там будете нужны, Голомшток? Здесь вами хоть КГБ интересуется, а там - кто будет?"
Смешно, но она была права: советская власть создала совершенно уникальный тип отношений с людьми искусства. Все крупнейшие русские писатели того времени - Синявский, Зиновьев, Солженицын - были какой-то частью своего существа сращены с советской властью: они обманывали ее, высмеивали ее или "бодались" с нею. В этом смысле замечательная статья Синявского "Что такое социалистический реализм" все еще остается недооцененной. Ведь в ней - не только насмешка, но и хвалебный гимн власти, которая ценит искусство, слово, выше жизни и реальности".
Так привычно стало говорить - Синявский и Даниэль, Юлик и Андрей, яблоко и груша. А ведь они были очень разные люди, друг на друга совершенно непохожие. Мне трудно разложить их по полочкам - у меня с ними связана добрая половина жизни. Но кое-что сказать можно. Синявский был значительней, загадочней, а Даниэль по-человечески проще и ближе, он был един - и как наш друг Юлик Даниэль, и как писатель, скрывшийся за псевдонимом Николай Аржак. Его никто никогда не обвинял в двоедушии. Он как слыл диссидентом, так диссидентом и выявился. Не то, что Синявский, который многим представителям официальной литературы в жизни казался своим, а в писаниях оказался чужим.
Андрей был куда трезвее Юлика, он, конечно, понимал значение того, что они делали, а Юлик, натура артистическая, был просто увлечен процессом. Он всегда был парень лихой и беспечный, жил от руки ко рту, не заботясь о завтрашнем дне. А Синявского, помимо могучего творческого импульса, снедала мысль о своей слишком успешной карьере ведущего советского критика, что в других было ему отвратительно. Вот он и утешал свою совесть, показывая при этом властям кукиш в кармане. Это очень в его характере, в этом он весь - бес лукавый, Ну, а кроме того, у него в руках был ключ к проблеме - его особые отношения с Элен Замойской, дочерью французского дипломата, то есть прямой и надежный выход в мир иной, на Запад. Никому тогда еще в голову такое не приходило, все писали в стол, кроме тех, кто служил "Софье Власьевне". А он парил и над теми, и над этими, у него был верный канал, и он знал, для чего пишет, - он писал, чтобы напечататься за границей.
В Синявском было нечто от героя "Бесов" Достоевского - Ставрогина. Он выдвинул множество идей, которые потом расхватали другие люди. Например, многое из того, что потом приписывалось П.Палиевскому, идеологу современного русского национализма, мы слышали от Синявского еще в начале 60-х. И с этими идеями в нем прекрасно уживалась ставрогинская способность играть людьми, их чувствами и убеждениями. Мне порой кажется, что и Юликом он играл, заманивал, завлекал в сети приманкой славы. Не для чего-то конкретного, а так, для удовольствия поиграть.
Его ничуть не смущало, если он сам себе противоречил. Помню, я как-то прочитала ему свою короткую пьесу «Змей едучий», - реалистическую до абсурда картинку русской жизни. Выслушав меня, он поднялся во весь свой не слишком значительный рост и простер вперед руку: «А любовь к русскому человеку где? – продекламировал он насколько мог, зычно. - Нет у тебя любви! А русского человека надо любить. Нельзя о нем без любви писать!» Что не помешало ему на следующий день объявить, будто главная затаенная мечта каждого русского человека – это насрать на потолок в церкви. Я не уверена, что в этом утверждении прозвучала особая любовь к русскому человеку, а впрочем, я могу ошибаться – может, именно такая охальная мечта и побуждала Андрея к любви? Не была ли сама эта мечта ему по-особому дорога?
Что до последних лет - для меня образ Синявского сильно изменился с тех пор, как он выехал на Запад. Он как бы преобразился, - именно потому, что остался верен себе. В России Синявский был, во-первых, русским националистом, во-вторых, человеком религиозным. Он вращался в среде, в которой большинство еще недалеко ушло от марксизма, и лучшие люди были либералы. А Андрей, в пику всем, регулярно ходил в церковь, и нам казалось странным, что он ходит туда и бьет земные поклоны заодно с ветхими старухами. Ведь он не только сам крестился, но и сына крестил, а это вовсе еще не было принято тогда в нашем окружении.
Помню, однажды, еще до ареста, везли мы всю святую семейку к нашему другу - детскому врачу. И всю дорогу в машине оба они, и Андрей, и Марья, - Егор по малолетству еще молчал, - всячески поносили нашу цивилизацию, и так меня этим разозлили, что я сказала: "Что вы так воюете против цивилизации, если сами ею пользуетесь вовсю? И холодильник у вас есть..." Холодильник в нашей среде тогда еще был роскошью.
"Холодильник можно выбросить..." - задумчиво сказал Андрей и Марья замолкла, как в рот воды набрала.
Но я не унималась: "И зачем вам врач? Если ты так веруешь в Бога - помолись Богу, зачем тебе врач?"
В ответ Андрей медленно произнес, взвешивая "за" и "против":
"А что, это мысль. Действительно, зачем нам врач, Марья?"
Тут Марья взвилась - испугалась, что он и впрямь сейчас откажется от врача. Она закричала:
"Хватит, Нелка, его дразнить! Заткнись!"
А я никак не отстаю:
"Я понимаю, как ты, Синявский, накоротке с Господом Богом разговариваешь. Но непонятно мне, зачем тебе для этого в церковь ходить, земные поклоны при всех бить? Ведь с Богом и наедине поговорить можно?"
А он мне с такой юродивостью в голосе:
"Это что же - весь русский православный народ с Богом в церкви общается, а я, Андрей Донатович Синявский, такой аристократ, я дома с ним общаться буду? Нет уж - я, как весь русский народ, я в церковь пойду!"
Я ему поверила, а он и тут меня обхитрил. По переезде в Париж, где большинство русских эмигрантов - националисты и церковные прихожане, Синявского как подменили. Из русского националиста он превратился в либерала и в церковь ходить перестал. Потому что, когда все вокруг были либералы, интернационалисты - он играл в националиста, славянофила и верующего. А когда вокруг все оказались славянофилы, националисты и православные - он тут же вышел из общих рядов и опять оказался вовне. Потому что он мог быть только один! Это - его главная черта. Быть одним-единственным. Потому он и стал Абрамом Терцем - все шли в одну сторону, а он взял и пошел в другую! Все стремились быть Иванами, а он взял и стал Абрамом - накося выкуси!
Впрочем,христианские добродетели Андрея всегда казались мне весьма сомнительными. Помню, как он в пылу какого-то спора воскликнул: «Жить в соответствии с христианскими заповедями невозможно, в соответствии с ними можно только умереть!». Похоже, это ему и нравилось – почитать заповеди, но не выполнять, и тогда в зазоре между верой и грехом может вспыхинуть творческая искра. Он всю жизнь был авантюристом и любил играть с огнем – хоть реальным, хоть виртуальным. В молодости он затеял роман с дочерью Сталина, а за это ведь в те времена и голову запросто снять могли. Марья любила его поддразнивать: "Ох,Андрей, не доведет тебя до добра твоя любовь к русской истории!"
В нем всегда было литературно-фантастическое стремление превратить жизнь в литературу, а литературные тропы - в жизненные события. Его роман с Элен Замойской - тоже ведь не случайность. Замойская - человек, необыкновенный во многих отношениях: польская княжна и француженка одновременно, католичка и специалистка по русской литературе. Она не могла его не привлечь. Мы, пожалуй, так никогда и не узнаем, чем она привлекла его больше - умом, красотой, происхождением или своим особым положением - она ведь была дочерью французского военного атташе, и неизвестно, какие разведки держали руку на ее пульсе.
Андрей однажды обронил примечательную фразу: "Жизнь - это овеществленная метафора". Его собственная жизнь и есть овеществленная метафора. Художественный образ был для него всегда важнее жизни. Вот он и сочинил для себя образ перевертыша Абрама Терца, сам срежиссировал его и сыграл, выделив в этом спектакле для Юлика вторую роль. Была ли это просто игра или серьезный сюжет с заранее обдуманным намерением - никто не знает.
А кто знает - не расскажет.
АЙГИ И АСАРКАН
Где-то в начале шестидесятых, года через два после выхода в свет сиреневого двухтомника Уайльда с моим переводом "Баллады Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда мы были приглашены на день рождения чувашского поэта Генки Лисина, впоследствии превратившегося в знаменитого Геннадия Айги. Тогда он еще знаменитым не был и снимал комнату в покосившейся хибаре в какой-то подмосковной деревушке.
Поехали мы туда вместе с переводчиком с немецкого Костей Богатыревым, через десять лет зверски забитым кагэбэшниками в собственном подъезде за дружбу с А.Д.Сахаровым. Но тогда никто этого не мог предвидеть, так же как и превращения Генки в знаменитость, а Генкиной деревушки в очередную новостройку Большой Москвы.
Мы въехали в эту не ведающую своего будущего деревушку на стареньком "москвиче", купленном пополам с одним приятелем на деньги, заработанные мной за перевод "Баллады". Дело было осенью, и в воздухе висел отвратительный моросящий дождик, распыляющийся над самой землей холодной липкой слякотью. Пока мы топтались на так называемой главной улице, пытаясь определить, как пройти к Генкиному дому, Саша решил припарковать машину, - он лихо свернул за угол и исчез. Минут десять мы его ждали, а потом жена Богатырева взроптала, что ей холодно и мокро, и мы, увязая по щиколотку в грязи, отправились искать Генкину хибару.
Когда мы туда ввалились, именинный пир был в самом разгаре - то есть и хозяин, и гости пребывали уже в изрядном подпитии. Народу была уйма, места было мало, никто никого не представлял - всем было хорошо и так.
Генка, невзирая на свой крошечный рост, возвышался над всеми, утверждая, что Пастернак не гений всех времен и народов, потому что таких гениев всего три - Гете, Рильке и Красовицкий. На недоуменный вопрос многих присутствующих, кто такой Красовицкий, он внятно ответил, что это его друг, совершенно замечательный поэт.
"Лучше тебя?" - усомнился кто-то.
"Почему лучше? - обиделся Генка. - Вровень!"
Примерно через час явился насквозь промокший Саша и пожаловавшись, что наш "москвич" утонул в грязи, попросил, чтобы кто-нибудь из присутствующих помог ему вытолкнуть машину на сухое место. Поэты переглянулись с критиками, критики с поэтами, и все единодушно решили, что ни к чему барахтаться в грязи из-за какого-то неизвестного неудачника, утопившего в грязи собственную машину.
Саша печально протиснулся к столу и налил себе водки. Я спросила испуганно:
"Господи, Воронель, как же мы вернемся домой?"
Сидящий на полу пожилой человек с залысинами - лет ему было чуть более сорока, тогда мне такие казались пожилыми, - с интересом поднял голову:
"Как вы сказали -- Воронель?"
"Ну да, - отозвался вежливый Саша, - Александр Воронель".
Человек с залысинами встал и уставился на меня:
"Так вы - Нина Воронель? Это вы перевели "Балладу Редингской тюрьмы"?"
Я испуганно кивнула, ежась от его пронзительного взгляда и не подозревая, к чему приведет этот вопрос.
"Ребята! - зычно объявил мой новый знакомый. - Пошли вытаскивать эту чертову машину. Это машина Нины Воронель!"
Похоже, человек с залысинами был здесь властителем дум, потому что по его команде поэты и критики безропотно поднялись, как солдаты по трубе, гурьбой высыпали под дождь, и побрели по грязи, на ходу поясняя друг другу:
"Это машина Нины Воронель. Она перевела "Балладу Редингской тюрьмы"!"
Когда мы добрались до злополучного маленького "москвичонка", печально открывающего для обозрения лишь верхнюю часть своего малогабаритного корпуса, обнаружилось, что он в своей беде не одинок. Почти впритирку к его скромному серенькому бочку вздымались крейсерские очертания роскошного малинового "роллс-ройса" с дипломатическими номерами, вокруг которого бестолково хлопотали две густо-размалеванные девки, профессия которых не вызывала сомнений. Сквозь ветровое стекло потерпевшего бедствие "роллс-ройса" на нашу веселую толпу в ужасе уставились два огромных черных глаза, симметрично расположенных над изысканно подстриженной полоской щеголеватых черных усиков. Лицо вокруг глаз и усов было очень молодое, очень смуглое и очень нездешнее, похожее скорей не на лицо, а на какой-то неведомый экзотический цветок.
Девки, не щадя ботинок и чулок, навалились на гордый зад "роллс-ройса" с криком: "Жми на газ, Юсуфчик!" "Роллс-ройс" взвыл и еще глубже погрузился в грязь. Черные глаза, сверкнув белками, горестно закатились под сень неправдоподобно длинных ресниц.
"Ты только не волнуйся, Юсуфчик!" - дружно завопили девки и снова попробовали сдвинуть машину, что, очевидно, было им не под силу. Но бедный Юсуфчик их не послушался, с каждым безрезультатным толчком он волновался все сильней и сильней, пока наконец совсем не отчаялся - он опустил стекло и, ломая длинные смуглые пальцы, запричитал на вполне сносном русском языке:
"Теперь меня вышлют, обязательно вышлют!" - и заплакал.
"Нет, нет, Юсуфчик, мы тебя вытащим, ты только не волнуйся!" - лицемерно взвыли девки в тон мотору тонущего в грязи "роллс-ройса".
Мы так и не узнали, чем кончилась эта маленькая драма - за то время, что она достигла кульминации, поэтам вкупе с Сашей удалось выудить из топи наш легковесный "москвичик" и мы уехали к Генке допивать недопитую водку. У нас не было чувства, что мы покинули друга в беде - рыдающий Юсуфчик в малиновом "роллс-ройсе" представлялся нам скорее инопланетянином, чем существом одной с нами породы.
Когда вся водка была выпита, лысоватый лидер поэтов, который оказался знаменитым московским гуру Александром Асарканом, попросил подвезти его домой. Мы втиснули его на заднее сиденье, в просвет, оставленный четой Богатыревых, и по пути попытались выяснить, чем же он так знаменит. Ходили слухи, что даже признанная красавица Ира Уварова, вышедшая впоследствии замуж за Юлия Даниэля, была безумно влюблена в него без всякой надежды на взаимность, а всякий, кто хоть раз видел Иру Уварову в те годы, не мог не поразиться нелепости описанного мною романтического тупика.
Хоть путь был долгий, ничего мы не выяснили. Должна признаться, что и по сей день мне не удалось понять, почему Асаркан обладал такой магической властью. Зиновий Зиник подобострастно изобразил его в одном из своих маловразумительных романов под именем Четверган, но и роман этот не пролил свет на тайну влияния Асаркана-Четвергана на поэтические души.
Когда мы, высадив Богатыревых, подкатили к дому Асаркана, он пригласил нас к себе выпить по чашечке кофе перед сном, обещая показать при этом нечто необыкновенное. Мы согласились, хоть нам показалась странной идея пить кофе перед сном. Роман Зиника еще не был тогда написан, и мне неоткуда было узнать, что великий гуру молодых поэтов боготворил кофе превыше всего.
"Какой грех самый страшный?" - трепетно спрашивал Четвергана восторженный последователь.
"Заваривать кофе в чайнике", - торжественно возвещал учитель. И ученик почтительно склонялся перед его мудростью.
Для нас Асаркан заварил кофе по всем правилам искусства заваривания кофе - точным движением он снял с огня подлинную тяжелую джезву с точно отмеренным количеством сахара, снял именно в тот момент, когда над нею начало подниматься коричневое кружево пены. Поставив джезву и три чашки на грубо оструганную - тоже подлинную - доску, он повел нас в свою комнату.
Я замерла на пороге, потрясенная. Таких комнат я еще не видела - она была совершенно и абсолютно пуста! Ни кровати, ни стула, ни стола, - ничего, кроме сверкающего, хорошо натертого паркета! Только вдоль стен до самого потолка высились аккуратно уложенные штабеля плотно увязанных газет. Подобные комнаты я увидела через много лет в древнем деревянном дворце японского императора в Киото - тот же сверкающий простор обнаженного паркета и ни единого предмета мебели на весь дворец, только вместо старых газет промасленная бумага, разрисованная диковинными птицами и цветами. Восковые фигуры императора со свитой, принимающего визит сёгуна, тоже со свитой, симметрично сидели друг против друга прямо на голом полу в непостижимых для европейцев, типично японских позах, уютно поместив свои ягодицы между широко разведеными пятками.
Нам не пришлось утомлять себя такими неприемлемыми позами - Асаркан, ловко выдернув из газетной стенки несколько пачек, создал из них импровизированный стол и три стула. И на этот стол он рядом с кофе возложил тот сюрприз, ради которого и заманил нас среди ночи в свою до паркета раздетую берлогу.
Сюрприз состоял из тоненькой пачки машинописных страничек, выбранных из сочинения неизвестного автора с труднопроизносимой фамилией Солженицын. На первой страничке красовалось заглавие "Один день Ивана Денисовича", следующая страничка была десятая, потом - двадцатая, потом - тридцатая и так до восьмидесяти. Асаркан объяснил, что странички украдены из редакции журнала "Новый мир", а так как всю повесть украсть не удалось, то преступник решил унести каждую десятую страницу, чтобы можно было составить представление о новом удивительном авторе.
Так, на рассвете непогожего осеннего дня в странной комнате, пародирующей жилище японского императора, мы встретили зарю новой русской литературы, отменившей в конце концов социалистический реализм.